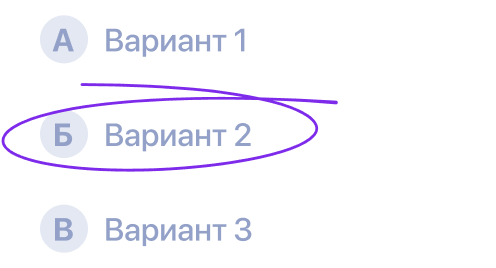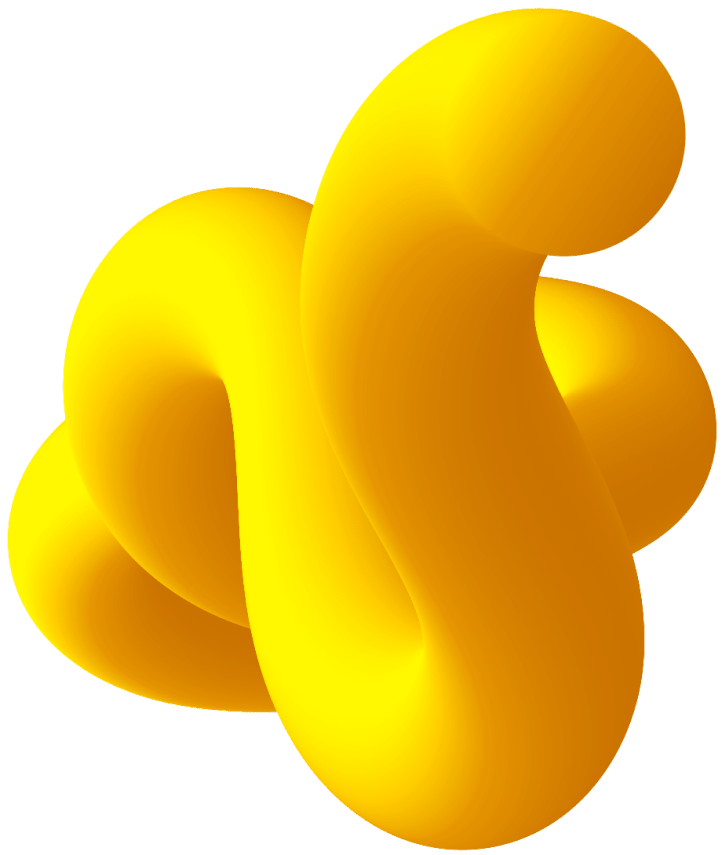Выбери формат для чтения
Загружаем конспект в формате docx
Это займет всего пару минут! А пока ты можешь прочитать работу в формате Word 👇
Д.П. Зеркин, В.Г. Игнатов
ОСНОВЫ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
КУРС ЛЕКЦИЙ
Содержание
Предисловие
Литература
Глава 1. Предмет и методологическая основа теории государственного управления
1. Предметная область теории государственного управления
2. Методологическая основа теории государственного управления
3. Методы теории государственного управления
Литература
Глава 2. Государство — многофункциональная политическая организация общества
1. Два подхода к определению понятия государства
2. Конкурирующие концепции роли государства в управлении обществом
Литература
Глава 3. Понятие государственного управления и его объективная необходимость
1. Понятие государственного управления
2. Объективная необходимость государственного управления
Литература
Глава 4. Отношения в системе государственного управления
1. Субъект и объект государственного управления
2. Субъектно-объектные отношения в государственном управлении
3. Государственное управление как система
Литература
Глава 5. Государственное управление и власть
1. Власть как главное орудие государственного управления
2. Механизм взаимодействия властей и управление
3. Авторитарный и демократический типы государственного управления. Структура субъектов власти и управления
Литература
Глава 6. Объективные законы государственного управления
Литература
Глава 7. Принципы государственного управления
1. Общесистемные методологические принципы государственного управления
2. Принципы, регулирующие управление как социально-политический процесс
Литература
Глава 8. Государственное управление как процесс принятия и исполнения решений
1. Государственное решение как научное понятие
2. Выбор целей — определяющее звено процесса принятия решения. Приоритетность политического выбора
3. Последовательность этапов принятия решений
4. Динамика исполнения решений
Литература
Глава 9. Методы и стиль государственного управления
1. Методы государственного управления
2. Стиль государственного управления
Литература
Глава 10. Понятие эффективности государственного управления и ее критерии
Литература
Глава 11. Факторы эффективности государственного управления
Литература
Глава 12. Государственное управление и федерализм
1. Федерализм как форма организации и принцип государственного управления
2. Специфика формирования и функционирования федеративной организации государственной власти и управления в России
3. Тенденции развития и проблемы федеративной формы организации государственной власти и управления в России
Литература
Глава 13. Взаимодействие государственного управления с местным самоуправлением
1. Местное самоуправление — демократическая основа управления в государстве
2. Направления и механизмы взаимодействия органов государственной власти с местным самоуправлением
3. Регулирование и разрешение конфликтов во взаимоотношениях местного самоуправления и органов государственной власти
Литература
Заключение
Литература
Рекомендуемая литература
Приложения
Приложение 1. Конституция Российской федерации (извлечения)
Приложение 2. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН. «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов российской федерации» (извлечения)
Приложение 3. Указ Президента Российской Федерации «о системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» (извлечения)
Приложение 4. Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении основных положений государственной политики в области развития местного самоуправления в Российской Федерации»
Предисловие
Государственное управление — наука и искусство. Эта истина — дитя ушедшего XX в., одним из крупнейших достижений которого явилось создание науки управления. Искусство управления людьми, считавшееся веками даром божьим, ниспосланным правителям — великим личностям, обрело рациональную основу. Оно переплелось с целенаправленным процессом политического руководства и государственного администрирования, ставшим профессиональной деятельностью наиболее активной группы людей.
Современная теория государственного управления вобрала в себя политические идеи великих древних мыслителей Платона и Аристотеля, политических философов эпохи Возрождения и нового времени итальянца Н. Макиавелли, англичан Т. Гоббса и Дж. Локка, французов Ш. Монтескье и Ж. Ж. Руссо, основоположника американской демократии Т. Джефферсона и «отцов-основателей» — участников создания американской конституции — Дж. Вашингтона, Д. Медисона, А. Гамильтона и др., знаменитого исследователя американской демократии А. Токвиля, немецких философов И. Канта, Г. Гегеля и К. Маркса, выдающихся российских политических теоретиков и ученых-юристов М.М. Сперанского, Б.Н. Чичерина, Н.М. Коркунова, И.А. Ильина, СЮ. Витте, П.А. Столыпина, В.И. Ленина и др.
Выдающийся вклад в создание теории и практики современного управления, в том числе государственного, внесли современные американские ученые и организаторы производства, в их числе крупнейший государственный деятель США Ф. Рузвельт. Американские авторы считают, что Соединенные Штаты создали искусство и науку управления большими организациями и экспортировали свой опыт во все страны земного шара. Американская система управления является эталоном для всего мира [1]. Возможно, и так, и, скорее всего, именно так, если речь идет о менеджменте — теории и практике управления производственными организациями, трудовыми коллективами и другими формами совместной деятельности людей. Что же касается государственного управления, то в этой сфере человеческой культуры эталонов быть не может, ибо каждой политической системе и различным политическим режимам свойственны многочисленные переменные, обусловливающие специфические принципы, формы организации и методы государственного регулирования и управления общественными процессами. Общие объективные закономерности политической и административной деятельности государства не являются специфическими, но и не определяют типы конкретных моделей систем управления. Последние формируются на основе обобщения разнохарактерного национального и международного опыта и рациональных инноваций действующих управляющих субъектов. Теория государственного управления, как и другие социально-политические науки, интернациональна; она — синтез знаний, накопленных отечественными и зарубежными исследователями и политиками-практиками. Доминирующим же аспектом в нем, конечно, является анализ проблем организации и функционирования государственного управления в данной стране, в частности в России.
Значение теории государственного управления для российской аудитории переоценить трудно. Государство и общество переживают переходный период своего развития; разрушена советская система государственной власти и управления, и пока построен лишь каркас либерально-демократической системы, причем заполняется он и авторитарно-бюрократическими механизмами и технологиями властвования и управленческих действий. Былая традиция видения и решения любых проблем государственного управления через идеологические противоположности (коммунистическое — антикоммунистическое) остается парадигмой политического мышления власть имущих. Безграмотность в государственных органах — явление не редкое. В числе причин системного кризиса, охватившего государство и общество, — отсутствие у административно-политической элиты четких теоретических ориентиров и ценностных установок в ответственной государственной деятельности.
Теория государственного управления в ее российском варианте — на этапе формирования. Советский опыт отвергнут; марксистско-ленинские идеи, на основе которых разрабатывались концепции государственного управления, большинством современных российских авторов, занятых этими проблемами, отброшены. Идет поиск иной, отличной от материалистической, методологии исследования политических и управленческих процессов. Во многих случаях он ограничивается пока критикой вульгаризированного марксизма и заимствованием нынешних модных зарубежных концепций. Словом, кризис в теории государственного управления — бесспорный факт. Достаточно сказать, что в официальных государственных актах и документах отсутствует понятие «государственное управление» и используется только понятие «государственное регулирование». К примеру, в тексте Федерального закона «О принципах и порядке разграничения предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации» (принятого в июне 1999 г.) основные понятия, используемые для целей закона, — «предмет ведения», «предмет совместного ведения», «предмет ведения субъектов Российской Федерации» — раскрываются через понятие «сфера общественных отношений», регулирование (курсив наш. — Авт.) которых отнесено Конституцией «к компетенции федеральных или региональных органов государственной власти». Во многих новейших публикациях, в том числе в учебниках по теории государства и права, административному праву, управление зачастую не относится к числу функций государства, а является, по мнению авторов, одной из форм осуществления функций — это управленческая или исполнительская деятельность органов исполнительной власти [2]. Между прочим, русский ученый, юрист В.М. Хвостов в 1914 г. писал о таких функциях «верховной власти», как «местное и центральное управление», что объективно отражало традиционную роль Российского государства [3].
Мы, как и некоторые другие современные авторы, рассматриваем в данной работе управление как одну из основных функций государства, а категорию «государственное управление» — как основное понятие соответствующей теории.
Концепция государственного управления, развиваемая в работе, включает методологическое требование разграничения функций рационального, целенаправленного воздействия органов государства на общество и самоорганизации социальных субъектов, выражающейся в различных формах общественного самоуправления. Современная политическая теория отвергает известное представление о государстве как «ночном стороже» (сформулированное некогда немецким социалистом Ф. Лассалем) и этатистскую позицию, согласно которой государство управляет всеми проявлениями общественной жизни. Сфера вмешательства государства в общественные дела ограничивается гражданским обществом, составляющим социальную базу бытия государства как политико-правового института.
Между тем уместно подчеркнуть истинность мысли, высказанной еще молодым социологом П.А. Сорокиным в 1919 г., об условиях, определяющих масштаб вмешательства государства в общественную жизнь. «Чем культурнее и солидарнее общество, тем менее оно нуждается в государственном вмешательстве. И чем оно невежественнее и морально невоспитанней, тем больше может быть пользы от вмешательства разумной государственной власти»[4]. Актуальность ее сохраняется и поныне.
Различие уровней общности социальных потребностей, интересов и целей общественных субъектов определяет многообразие целей и видов государственного воздействия на общественные процессы: политическое руководство, административное управление, нормативно-правовое регулирование, военное вмешательство с целью подавления конфликтов, угрожающих безопасности государства и общества. Высшим уровнем управления является политическое руководство, объектом которого выступает социальная система в целом и само государство как политическое сообщество граждан. Повседневная оперативно-исполнительская деятельность государственных органов — это административно-государственное управление. Категория государственного управления в широком ее толковании не сводится ни к одному политическому руководству (как это трактовалось в советской литературе), ни только к административно-государственной деятельности. В структуре государственных институтов развитых стран, включая Россию, высшие органы власти являются и органами политического руководства и административного управления (органы исполнительной власти). Попытки отделить органы государственного управления от политического руководства не имеют объективной основы. Они построены на «политико-административной дихотомии», характерной для некоторых современных зарубежных школ управления. Проявление «политико-административной дихотомии» в теоретических работах российских авторов и в практической деятельности государственных органов объясняется стремлением уйти от тотальной политизации государственного управления, что было типичным для советской системы. Не следует, однако, отождествлять государственное управление с менеджментом, для которого политика — вне управленческого процесса.
Уходя от вульгаризированной политизации управленческого процесса, не следует впадать в другую крайность: сводить государственное управление к административно-исполнительской деятельности, оставляя за «бортом» политическое руководство.
Приоритет политики как стратегического целеполагания в государственном управлении — это один из его принципов. Административно-государственные решения любого уровня разрабатываются, принимаются и реализуются в рамках тех или иных политических стратегий. В том числе решения, связанные с регулированием негосударственного сектора экономики. Роль государственной политики в управлении велика в условиях переходного периода развития страны.
Теория государственного управления, как и любая иная социально-политическая наука, выявляет и объясняет объективные законы управленческого процесса; формулирует идеальные модели способов управленческих воздействий государственных субъектов на управляемые объекты, т.е. принципы управления. Последние объективно обусловливаются как содержанием законов управления, так и типом государственного строя и уровнем социально-экономического, политического и культурного развития общества. Для России такими факторами являются: переходное состояние политической, экономической систем и социальной структуры общества, а также политической и правовой культуры правящего слоя и населения.
В современной теории управления доминирует концепция демократизации управленческого процесса, акцентируется перспектива перехода от традиционных бюрократических стилей администрирования к антибюрократическим, предполагающим нарастающее участие в управлении управляемых. Для России эта проблема приобретает особо важное значение, так как вызвана необходимостью решения задачи построения демократического правового государства. Сложность же проблемы объясняется тем объективным противоречием, с которым сталкиваются государственные органы при создании новой общегосударственной системы управления. Восстановление управляемости общественными процессами предполагает широкое применение административно-правовых методов и создание достаточно жесткой единой вертикали государственной власти. Вместе с тем эффективная управляемость формируется на демократической основе, сочетающей централизацию власти с децентрализацией. Отсюда — особо важная роль для нашего многонационального и многоконфессионального общества создания эффективной системы федерализма: и как формы государственного устройства, и как принципа государственного управления.
В условиях, когда государственный сектор в экономике и других сферах жизни перестал быть единственным и нарастает влияние частного (негосударственного) сектора, когда постепенно укрепляются институты гражданского общества (самоуправления), на первый план объективно выдвигается проблема эффективности государственного управления. Это, по сути дела, проблема его конкурентоспособности. В США, например, она теоретически осознана и практически решается с обоюдополезными результатами [5]. В нашей стране на уровне государства она еще в полной мере не осознана, хотя и находит все большее понимание. Именно на повышение эффективности государственного и муниципального управления, государственной и муниципальной службы направлены реализуемые сейчас в России административная реформа, реформы государственной службы, местного самоуправления, судебная реформа.
Острота проблемы эффективности государственного управления продиктована всем комплексом составляющих системного кризиса в стране. Преодоление его возможно лишь путем повышения эффективности государственного управления. Решение всех других проблем — политических, социально-экономических и прочих — объективно связано с эффективностью управляющей деятельности органов государственной власти. Такой подход находит все большее понимание у авторов учебников и монографий последних лет [6].
Предлагаемая читателю книга не претендует на освещение всех многочисленных проблем, относящихся к теории государственного управления. Авторы испытывали некоторые трудности при написании данной работы, в частности:
а) отсутствие устоявшегося объекта исследования — конструкции новой системы государственного управления российским обществом, переходный характер политической, экономической систем, социальной структуры общества, его идеологии и культуры;
б) смена теоретико-методологических парадигм в российском обществознании.
Мы посвятили свою книгу анализу прежде всего теоретически и методологически значимых, с нашей точки зрения, проблем теории государственного управления, составляющих ее основу.
Книга написана на основе лекций, прочитанных в Северо-Кавказской академии государственной службы [7], и других научно-исследовательских разработок. Авторами использованы материалы научных конференций по проблемам государственного и муниципального управления, проводившихся в СКАГС в последние годы [8].
2-е издание подготовлено к выпуску В.Г. Игнатовым.
Литература
1. Современное управление. Т. 1. — М., 1997. С. 13.
2. Мату зов Н.И., Малъко А.В. Теория государства и права. — М., 1997. С. 75.
3. Хвостов В.М. Верховная власть государства. Теория государства и права: Хрестоматия. — М., 1998. С. 344—345.
4. Сорокин П.А. Эффективность деятельности государства. Теория государства и права: Хрестоматия. — М., 1998. С. 342.
5. См.: Эффективность государственного управления. — М., 1998.
6. См., например: Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. Курс лекций. Изд. 2-е, дополн. — М., 2004; Глазунова Н.И. Система государственного управления: Учебник. — М.: ЮНИТИ, 2002; Глазунова Н.И. Государственное управление: Учебник. — М.: Муниципальный мир, 2004; Государственное управление: основы теории и организации. Учебник / Под ред. В.А. Козбаненко. — М.: Статут, 2002; Пикулькин А.В. Система государственного управления: Учебник. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001; Шамхалов Ф.И. Теория государственного управления. — М.: Экономика, 2002.
7. См.:3еркин Д.П. Основы политологии. — Ростов н/Д, 1997; Зеркин Д.П. Основы конфликтологии. — Ростов н/Д, 1998; Игнатов В.Г. Становление государственного и муниципального управления в современной России (1990-е годы). — Ростов н/Д, 1998; Ашин А.К., Понеделков А.В., Игнатов В.Г,, Старостин A.M. Основы политической элитологии. — М., 1999; Игнатов В.Г. Становление государственного управления и местного самоуправления в современной России. — Ростов н/Д, 2001; Игнатов В.Г. Государственное и муниципальное управление: Введение в специальность. — Ростов н/Д: Изд-во СКАГС, 2004; Вертикаль власти: проблемы укрепления российской государственности в современных условиях. — Ростов н/Д, 2001; Государственная служба современной России: проблемы реформирования и эффективного функционирования. — Ростов н/Д, 2003; Государственная служба. Учебник / Под ред. В.Г. Игнатова. — М. — Ростов н/Д: ИКЦ «МарТ», 2004; Игнатов В.Г., Бутов В.И. Местное управление в России и его реформирование: история и современность. — Ростов н/Д, 2004; Игнатов В.Г., Рудой В.В. Местное самоуправление. Изд 2-е, доп. и перераб. Учеб. пособие. — Ростов н/Д, 2003 и др.
8. См.: Кризис власти / Материалы симпозиума. — Ростов н/ Д: СКАГС, 1994; Рациональность и государственное управление /Тез. докл. и сообщ. — Ростов н/Д: СКАГС, 1995; Политико-административная элита и государственная служба в системе властных отношений. Вып. 1-3 / Тез. докл. и сообщ. — Ростов н/Д: СКАГС, 1996; Проблемы легитимации власти и социальное управление / Тез. докл. и сообщ. — Ростов н/Д: СКАГС, 1996; Власть и управление. Вып. 1-4 / Тез. докл. и сообщ. — Ростов н/Д: СКАГС, 1997; Эффективные технологии в системе государственного и муниципального управления / Тез. докл. и сообщ. — Ростов н/Д: СКАГС, 1999; Партии и партийные системы в современной России и послевоенной Германии. — М. — Ростов н/Д, 2004; Властные элиты современной России в процессе политической трансформации. — Ростов н/Д: Изд-во СКАГС, 2004, и др.
Глава 1. Предмет и методологическая основа теории государственного управления
Органы государственной власти в современном обществе — это организующий и управляющий центр бесконечно многообразной жизнедеятельности миллионов людей. Это — мозговой блок, от которого в решающей степени зависит способность общества к самоорганизации и жизненной активности как самостоятельной материальной системы. Любую страну можно сравнить с великим кораблем, движимым работой многочисленных гребцов. У штурвала корабля-государства — выделившаяся из массы населения группа людей, взявших на себя труд вести судно безопасным курсом по океану человеческой истории. Корабль будет идти полным ходом, если энергия каждого из гребцов соединится в единую могущественную силу, преодолевающую силу встречных океанских волн и мирового ветра, если управляющие кораблем и работой команды гребцов будут следовать показаниям компаса, руководствоваться знанием правил общественно-исторической навигации.
Наш великий корабль по имени «Россия», к сожалению, в 90-х гг. прошлого века оказался в руках такой команды, которая начала вертеть штурвалом так, что вырулила на рифы, подставив борта корабля сокрушающим волнам ураганного кризиса. Капитаны оказались малоопытными и слабо знающими науку социально-исторической навигации. Эта наука есть теория государственного управления. Освоение ее и умелое применение людьми, занятыми государственными делами, — непременное условие их успешной деятельности, хотя и недостаточное. В государственном управлении, как ни в какой другой сфере деятельности, требуется оживлять теорию практическим опытом, обогащать государственной мудростью народа.
1. Предметная область теории государственного управления
Деятельность государства — многогранный объект, изучаемый многими научными дисциплинами: теорией государства и права, административным правом, политологией, социологией, наукой социального управления, конфликтологией и др. Каждая из наук исследует определенный аспект деятельности государственных институтов, их структуры, содержания, направленности и т.п. Например, политология рассматривает сущность и закономерности политической деятельности и государства. Политическая социология изучает социальные основы государственных институтов и социальную детерминацию принципов, форм и методов их функционирования. Юридические науки занимаются исследованием правовых аспектов функционирования государственной власти. Для теории социального управления деятельность государства — один из видов управления обществом, анализ которого позволяет выяснить универсальность изучаемых этой наукой закономерностей саморегуляции такой сложнейшей системы, какой является социальная система.
Важнейшая сфера деятельности государства — управление общественной жизнью людей — объект и предмет относительно самостоятельной научной дисциплины социального управления — теории государственного управления. Государственное управление как объект научного познания представляет собой многоплановое образование. Изучающая его теория в качестве своего предмета выделяет проблемы сущности и специфики государственного управления, его законы, принципы, формы и методы, а также особенности субъекта и объекта государственного управления. Предметная область данной научной дисциплины очерчена в основном понятиями: государство, политика, государственное управление и власть. В связи с этим теория государственного управления является, на наш взгляд, наукой политической и правоведческой.
Концепция, положенная в основу настоящей дисциплины, исходит из взаимосвязи политики, права, управления и власти. Она противоположна либеральной парадигме «политико-административной дихотомии», бытовавшей в западной политической мысли вплоть до 90-х гг. XX столетия. Отрыв политики от управления, противопоставление государственного управления политике породили двоякий подход в теории: а) государственное управление суть отрасль науки администрирования, т.е. хозяйственного управления; б) государственное управление — это политическая наука.
Деятельность государства в области социального управления неразрывно связана с правовым регулированием общественных отношений и поведения людей. Отсюда юридический аспект теории государственного управления. В этом смысле она может быть охарактеризована как политико-юридическая отрасль знания.
Определение теории государственного управления как науки политической или политико-юридической было бы неполным, если бы мы не учли ее социальный аспект. Ведь государственное управление воплощает в себе воздействие государства как ядра политической системы на общество в целом, т.е. на социум, а также взаимодействие его с различными элементами социальной системы. Поэтому государственное управление по своему определению — это деятельность и отношения политико-правовые и социальные. Соответственно и теория государственного управления — это политико-правовая и социальная наука. Таково же свойство ее собственных понятий. Они характеризуют явления и процессы, в сущности которых сплетены воедино признаки политического и социального, как это воплощается, например, в основополагающей категории «государство». Последнее представляет собой не только институт публичной (политической) власти, но также и обозначает общественный институт, а конкретнее — высшую форму организации современного общества. Понятие «политическое управление» (руководство) также означает действие и взаимодействие, связанные с использованием государственной власти и власти общественной (в частности, институтов гражданского общества).
Определение теории государственного управления как науки политико-правовой и социальной и соответствующая характеристика ее собственных понятий ориентируют, во-первых, на понимание государственного управления как стороны и формы проявления саморегуляции общественной системы, как ее самоуправления; во-вторых, на подход к данной научной дисциплине как комплексной, пограничной, сформировавшейся на базе политических, правовых и социальных областей научных знаний.
Таким образом, предметная область теории государственного управления слагается из совокупности политико-правовых и социальных явлений и процессов, характеризующих сферу взаимодействия государства и общества как субъекта и объекта управления и самоуправления.
Судя по опубликованным за последнее время немногим теоретическим работам по государственному управлению1[1], рассматриваемая научная дисциплина в нашей стране еще полностью не сложилась. Это подтверждается и тем фактом, что ее статус пока трактуется неоднозначно. Так, одни авторы (например, А.И. Радченко) считают научное знание по государственному управлению частью (разделом) науки социального управления в нашей стране. Многочисленные зарубежные научные исследования, проанализированные, в частности, в энциклопедической монографии американских авторов «Эффективность государственного управления» (М., 1998), с полным основанием свидетельствуют о данной отрасли знания скорее как о самостоятельной, а не как части или, тем более, разделе более общей науки социального управления.
Другие отечественные авторы, характеризуя предмет интересующей нас научной дисциплины, не выясняют ее отношения к иным областям социального знания. Третьи исследователи (например, Г.В. Атаманчук) вообще не вдаются в дискуссию о предмете и статусе теории государственного управления, а, как говорится, сразу берут быка за рога: изложение начинают с основной проблематики науки. Такой подход тоже имеет основание: Научную теорию, находящуюся в процессе становления, лучше определять не по тому, что она уже представляет собой, а по тому, на что она нацелена, выделяя главное, из чего складывается теория (подходы, понятия, модели), или, по крайней мере, ее основные элементы [1]. Это замечание известного французского политолога и социолога Р.-Ж. Шварценберга высказано по отношению к политической науке (политологии), но оно применимо и к рассматриваемой области политико-социального знания.
Главное, что составляет содержание теории государственного управления как научной дисциплины, — это изучение важнейшей функции государства как института управления обществом, закономерностей и принципов их реализации, научное обоснование государственной политики как ядра и системообразующего элемента управления. Функциональный анализ государства, деятельности его органов власти как политико-правового института управления обществом и складывающихся при этом политико-правовых и социальных отношений — таков предмет теории государственного управления.
Знание основ теории позволит читателю применить ее к исследованию практики управленческой деятельности Российского государства, осмыслить многосложные проблемы, которые приходится решать правящим кругам, институту госслужащих в нынешней сложной ситуации. И, к сожалению, далеко не всегда успешно.
Теория государственного управления — комплексная наука. Ученые различных областей социально-политического знания расчленяют политико-социальную действительность на разнообразные элементы: области, аспекты, уровни и пр. Данная теория решает задачу рассмотрения государственного управления как целостной, относительно самостоятельной сферы деятельности государства и складывающейся в связи с ней системы политико-общественных и политико-правовых отношений. Именно — относительно самостоятельную сферу, заключенную в более широкую систему многогранной властной и организующей деятельности государства, всей политической системы, и в еще более широкую и общую систему саморегуляции социума. Тем и объясняется комплексный характер изучаемой теории, вбирающей в себя элементы знания и подходы таких наук, как политология, политическая социология, теория государства и права и конфликтология. И конечно же, теории социального управления, раскрывающей общие закономерности управления социальными, в том числе политическими, процессами и отношениями.
Система понятий в научной литературе не сложилась. Тем не менее можно наметить некоторые блоки, составляющие категориальную сетку научного анализа специфической сферы деятельности государства и государственно-общественных отношений. В них читатель встретится с новыми понятиями, а также известными по изучению политической науки, социологии, теории социального управления. Однако здесь они рассматриваются в ином аспекте — как существенные стороны и элементы института государственного управления.
Первый блок — общие понятия, характеризующие управление как основную функцию государства: государственное управление, государство как субъект управления (государственные органы, аппараты, учреждения), объект государственного управления (социальные группы, общественные процессы, социальные институты); государственная власть (политическая, административная, экономическая и др.); управленческая деятельность (политическое руководство, административное управление, нормативно-правовое регулирование); управленческие отношения (организационно-экономические, социально-политические, нормативно-правовые).
Второй блок — понятия, описывающие государственное управление как процесс функциональной деятельности; функции государственного управления, законы и принципы управления, формы, методы, средства и стиль управляющей деятельности.
Третий блок — понятия, отражающие основные элементы управленческого процесса и его этапы: политический выбор, целеполагание, политическая стратегия и т.д.; государственное, решение и принятие решения.
Четвертый блок — понятия, характеризующие источники и движущие силы, мотивирующие и блокирующие факторы управленческой деятельности и отношений: национально-государственные интересы, политические интересы социальных групп и общностей, конфликт интересов, общенациональные и групповые ценности.
Пятый блок — понятия, описывающие государственное управление в целом: система государственного управления, система государственной власти, уровни субъектов управления и власти, централизация и децентрализация власти и управления и др.
Шестой блок — понятия, описывающие внешнюю среду, в которой осуществляется государственное управление: социальное, политическое, правовое, экономическое, геополитическое и др. пространства, единицы социального времени (этапы, периоды).
В теории государственного управления используются философско-социологические и другие общетеоретические понятия, прежде всего науки социального управления.
2. Методологическая основа теории государственного управления
Начнем с определения понятия методологии. Это не только совокупность методов познания, но и принципов — философско-социологических, политологических и других общенаучных — и обосновывающих их теорий. Методология — это определяющее начало процесса познания, а также система общетеоретических требований, которые реализуются в комплексе конкретных методов и приемов научного познания и объяснения объектов социальной действительности.
В современной политической науке существуют различные методологические концепции анализа политической реальности. Подобная же ситуация наблюдается в отечественной литературе по государственному управлению. И все же можно выделить некоторые типичные из них. Это: общефилософская диалектико-материалистическая методология, политолого-социологические типы анализа — системный и структурно-функциональный, конфликтологический и кибернетический подходы. Несмотря на несовпадение мировоззренческих основ, отмеченные методологии ориентируют прежде всего на объективное отражение действительности, хотя и различных ее сторон и с различных научно-познавательных (гносеологических) точек зрения. Стремление к объективности в объяснении политико-социальной реальности (а иной цели у научного исследования нет) позволяет сделать вывод о возможности рассматривать указанные методологические концепции как не взаимоисключающие, а как взаимодополняющие типы анализа действительности.
В прошлом советским, а ныне российским авторам был и пока, к сожалению, остается свойствен стереотип мононаправленного социально-философского, политико-идеологического заангажированного мышления. Если в советское время марксистская диалектико-материалистическая методология считалась единственно научной, а все прочие антинаучными, то в настоящее время под влиянием политической конъюнктуры позиция многих бывших марксистов стала противоположной. Между тем, когда дело доходит до попыток объективного рассмотрения и оценок нынешних социально-экономических и политических процессов, то без обращения к марксистской методологии (обычно скрытого) не обходится. Постоянно приходится слышать и читать в прессе высказывания об объективных экономических законах и недопустимости их нарушения, об определенной роли политического курса правительства в преодолении экономического кризиса и т.д. Но ведь высказывания такого рода базируются на материалистической методологии.
Примечателен факт, что многие здравомыслящие предприниматели-олигархи открыто и без оговорок руководствуются ею при обосновании своей политики капитализации России. В той мере, в какой та или иная методология содержит объективную научную истину, она может быть использована любым историческим субъектом, любым классом. Наука не может являться собственностью какого-либо одного класса; она — достояние человечества. Тот или иной класс берет на вооружение определенные выводы, положения социальной науки, руководствуясь своими интересами. Последние определяют, как используется научная теория: во имя добра или во зло. Здесь наблюдается аналогия с использованием естественнонаучных открытий.
Применение диалектико-материалистической методологии (не путать с марксистско-ленинской политической идеологией, партийной коммунистической доктриной) к теории государственного управления означает, по крайней мере, три основных требования, которые рекомендуется реализовывать при изучении деятельности государства: во-первых, рассматривать государство как социальную систему, а его управленческую деятельность как один из видов социального управления; во-вторых, понимать феномен государственного управления как объективированную рациональную (сознательную) деятельность, т.е. как такую, которая опредмечивается в разнообразных формах политико-социальной реальности, организационно-управленческих структурах, политико-правовых актах, реальных управленческих отношениях между центрами государственной власти, партиями и общественными объединениями и др.; в-третьих, строить теоретический анализ государственного управления с учетом принципа конкретно-исторического подхода. Это означает в данном контексте признание идеи развития, а также конкретно-исторической специфики государственного управления (обусловленности тем или иным типом социально-политического строя).
Конкретно-исторический, материалистический тип анализа включает требования классового подхода, но только там, где группы классовых интересов реально существуют и оказывают существенное влияние на принятие управленческих решений. Отрицать классовый подход при анализе государственной политики и при разработке стратегии государственного управления по меньшей мере некорректно, равно как и абсолютизировать его. В ситуации, когда правящие круги усматривают свою социальную базу в формирующемся классе предпринимателей-капиталистов и среднего класса, когда в российском обществе нарастает социально-классовая дифференциация и глухо (пока) звучат угрозы классового конфликта, игнорировать классовый подход — значит отступать от объективности. При этом нужно помнить, что любая классовая позиция в социально-политическом анализе несет в себе заряд субъективизма. Однако он может быть нейтрализован методологиями, в которых классовый подход — лишь один из элементов, причем не основных.
Общефилософская диалектико-материалистическая методология не противоречит, а конкретизируется в методологии системного анализа. Их не следует противопоставлять, хотя бы потому, что системный тип исследования общественных процессов был впервые применен К. Марксом в его знаменитом «Капитале». Теоретическое обоснование в современных социально-политических науках эта методология получила в работах Т. Парсонса (США, 1951) и Д. Истона (1953-1965). Системная модель Д. Истона «представляет собой принципиальное применение общей теории систем к политическому анализу». В политическую науку были введены основополагающие понятия теории систем: «политическая система», «устойчивость», «равновесие», «функция», «обратная связь» и др. Системный подход в теории государственного управления — это анализ, основывающийся на наличии в государственном управлении черт внутренних взаимосвязей, образующих единое целое.
Изучение государственного управления как системы предполагает также структурно-функциональный подход. Понятия «структура» и «функция» вписываются в более универсальное — «система». Структурно-функциональный анализ подчинен решению проблем, с которыми связано существование и поддержание жизнеспособности системы.
В современной теории управления структурно-функциональный подход, пишет Н. Мысин, включает два аспекта. Структурный аспект: а) выяснение компонентов, составляющих данную систему; б) определение закономерных связей этих компонентов. Функциональный аспект: изучение внутреннего механизма функционирования элементов системы, а также изучение внешнего функционирования системы — взаимодействия системы с внешней средой [2]. Знание внутреннего механизма функционирования (взаимодействия элементов системы) раскрывает направленность функционирования на сохранение системы, а также на реализацию главной функции по отношению к более общей системе, куда она входит. Анализ внешнего функционирования предполагает обращение к кибернетическим понятиям: «прямая» и «обратная» связи, закрытая система, «черный ящик», открытая система, адаптация и др.
Каждую общественную систему можно представить в виде кибернетической модели, имеющей вход и выход. Управляющее воздействие на нее осуществляется на входе, а результаты фиксируются на выходе. Скажем, на входе политической системы: требования со стороны общества и поддержка системы определенными общественными силами, на выходе — решения и действия — ответ на требования и реакция на поддержку. Анализ взаимодействия входов и выходов, зависимостей между ними позволяет прогнозировать поведение системы в рамках определенных условий и управлять ею. Познавательная модель «черный ящик» может быть использована как для изучения субъекта государственного управления (любого государственного института), так и объекта управления (социальной группы, политической организации и пр.). И тот и другой, с точки зрения познавательной ситуации, выступают в виде «черного ящика» в том смысле, что характеризуются нераскрывшимися a priori свойствами внутренней структуры и механизмами функционирования элементов. Эффект модели «черный ящик» очевиден в познании и управлении поведением так называемых непредсказуемых властных и политических субъектов, что присуще российской политической жизни.
По природе своей управленческая деятельность государства направлена на регулирование и разрешение общественных противоречий и конфликтов между общими и частными интересами. Конфликтное взаимодействие элементов управляющей и управляемой систем, субъектов интеграции и дезинтеграции, развития и разрушения и т.д. свойственно государственно-общественным системам. Поэтому конфликтологический подход в теории государственного управления является таким же объективно обусловленным, как и другие, вышеназванные. Он неотъемлемая черта диалектической методологии познания и практической деятельности. Правда, в молодой конфликтологической науке такая концепция разделяется не всеми. В противоположность точке зрения немецкого политолога Р. Дарендорфа, рассматривающего политико-социальный процесс как цепь конфликтов, концепция Т. Парсонса ориентирована на изучение «социального порядка», стабильности социальной системы, где конфликт трактуется как явление временное, незакономерное.
Казалось бы, что прямая противоположность указанных концепций исключает возможность какого-либо их сочетания. И тем не менее Р. Дарендорф считает, что его позиция (конфликтная модель общества) не более верна, чем другая — функциональная модель согласия. По его мнению, обе полезны и необходимы для социологического и политологического анализа, так как в общественной жизни постоянно присутствуют оба компонента общественных отношений: сотрудничество и конфликт.
Рассмотренные типы теоретического анализа феномена государственного управления не исчерпывают всего методологического арсенала науки. В ходе дальнейшего изложения ее основ мы будем обращаться к такой категории социальной философии, как деятельность. Ее абстрактная системная модель: потребности-интересы—цели — вполне приложима к анализу государственного управления как специфического типа социальной деятельности.
Можно было бы упомянуть политико-культурологический подход, получивший распространение в политической науке за последние годы. Он дает возможность по типу политической культуры, характерному для того или иного общества, судить о политической системе, о характере государственно-правовых институтов, их управленческой деятельности и государственно-управленческих отношениях.
Критерий любой методологии, применяемой в конкретных областях научного познания, — возможность достижения объективной истины и эффективность практического действия, основанного на реализации полученного знания. Такая возможность, однако, ограничивается социальными условиями познания. Отметим некоторые особенности, характеризующие познание политико-управленческих процессов.
Первая особенность. Анализ процессов государственного управления во всех случаях по форме субъективен, ибо аналитик (будь то практический политик или теоретик) осуществляет его с позиций определенной части общества, скажем, социальной группы, политической организации и др. Он участник политической жизни страны, государства (по меньшей мере как гражданин). Аналитик мыслит на основе того материала, тех представлений, которые сложились или складываются, а то и господствуют, в данное время в обществе. Иначе говоря, исследователь — не пушкинский летописец Пимен, который
Спокойно зрит на правых и виновных,
Добру и злу внимая равнодушно,
Не ведая ни жалости, ни гнева.
Объективная истина в политических науках более, чем в других, выражена в субъективной форме.
Вторая особенность. Теория политического управления не может «перекочевывать» из одной страны в другую, якобы благодаря фактологическому обоснованию ее объективности, не меняя своего проблемного поля, средств, приемов и направления исследования, а только за счет усреднения свойств политических субъектов [3]. Чтобы построить науку о политическом объекте, нужна прежде всего его онтологическая картина, свойственная данной стране. В российской политической науке пока нет сколько-нибудь удовлетворительной картины, изображающей политику (добавим: политику государственного управления) в качестве объекта научного познания. И это создает серьезные трудности на пути формирования научного знания. Однако такое обстоятельство не означает, что данная наука невозможна в принципе [4]. Теория государственного управления формируется на основе, во-первых, исторического опыта, в том числе советского, во-вторых, современного международного и российского опыта, пусть даже нередко разрушительного.
Третья особенность. Построение теории государственного управления на основе онтологической картины современного российского государственного строительства и политики управления создает реальную предпосылку для субъективистского, идеологически и политически ангажированного подхода в понимании социальной функции теории — интерпретации ее как теории инструментальной. Данный термин использован известным современным американским экономистом и социологом Дж. Гелбрейтом при критической характеристике тех западных экономических теорий, авторы которых видят свою главную цель и функцию теории не в объективном объяснении действительно существующей экономической системы в данной стране, а в формировании представлений об этой системе, сходных или совпадающих с представлениями доминирующих в обществе сил и организаций. Субъективистский теоретический образ служит заменителем объективной реальности и является инструментом обоснования политики господствующих властных структур. Действительная функция теории, будь то экономической или политической, — не обслуживание каких-то интересов, не инструментальная функция, а объясняющая, способствующая объективному пониманию людьми, в том числе лидерами, правящими элитами и господствующими экономическими субъектами, социальной реальности.
Инструментальность теории государственного управления формируется в ответ на социальный заказ господствующих групп и институтов власти. Однако она имеет источник (еще раз подчеркиваем) в объекте познания — онтологической картине существующей в данной стране системы государственного управления. В этом трудность использования инструментального подхода в теоретическом анализе проблем государственного управления.
Наконец, еще одна особенность связана с тем, что объектом отражения анализируемой нами теории является современная политико-социальная действительность, а ее (современность) — динамичную, противоречивую, во многом с неопределенными перспективами на будущее, всегда сложнее понять и объяснить, чем уже состоявшееся прошлое. Хотя познание прошлого тоже не беспроблемно. Методология в том случае обеспечивает постижение объективной истины, если конкретизируется и реализуется в адекватных научных методах и технологиях описания и объяснения действительности. Остановимся на этом вопросе.
3. Методы теории государственного управления
Комплексный характер теории и ее методологической основы определяет и соответствующую совокупность объективных и субъективных, социологических, политологических и общенаучных, теоретических и эмпирических методов изучения политико-социальной и политико-правовой реальности. Прежде всего следует отметить, что, как и в любой политической, юридической и социологической дисциплине, в теории государственного управления постоянно актуальной проблемой является проблема соотношения объективного и субъективного методов познания. Шведский социолог П. Монсон отмечает: «...вопрос объективного и субъективного, прежде всего соотношения между ними, является основополагающей проблемой, которую изучают и анализируют большинство обществоведов» [5]. Значение данного вопроса вытекает из природы государственного управления как политико-социальной реальности, характеризующейся единством объективного и субъективного аспектов.
Государственное управление, пишет проф. Г.В. Атаманчук, — субъективный фактор. Это определение верно, если рассматривать его в соотношении с общесоциальными объективными материальными основами. Но оно не полностью отражает реальную структуру последнего и как объекта, и как процесса деятельности. Ведь, как правильно отмечает автор, в государственном управлении слиты элементы сознания — представления, идеальные образы, логические конструкции — и деятельность, которые преобразуясь в управленческом процессе «в материальность», «приобретают соответствующую предметность». И это еще не все. В структуру государственного управления включены в качестве неотъемлемой его стороны некоторые материальные и объективированные символические элементы. Это орудия и многие средства управления, правовые нормы — объективированные формы выражения общей государственной воли и интересов, совокупность текстов — директивных, политических и пр. документов, иная управленческая информация, зафиксированная в объективной языковой символической форме. Сказанное в полной мере можно отнести к государственному управлению, поскольку в его структуре политический фактор — одна из составляющих. Словом, по своей природе и структуре государственное управление представляет собою единство субъективного и объективного аспектов. Причем субъективный аспект здесь определяющий, коль скоро государственное управление, говоря словами М. Вебера, суть целерациональная деятельность и соответствующие отношения.
Двойственное бытие государственного управления как воплощения объективной и субъективной политико-социальной реальности определяет необходимость применения при его изучении объективных и субъективных методов. Объективный метод означает взгляд на изучаемый объект — государство и его деятельность — извне, как бы со стороны. Это способ объяснения совокупности элементов и взаимосвязей, составляющих государственное управление, через анализ объективных результатов управленческой деятельности безотносительно к их оценке познающим субъектом. Субъективный метод предполагает рассмотрение объекта изнутри как собственной организации людьми своей политико-социальной, экономической и других видов жизни как реальности, связанной с общественными интересами и ценностями. Если объективный метод исходит из того, что отправной пункт анализа — объект, существующий независимо от познающего субъекта, то в субъективном методе исходным пунктом анализа является не сам объект, а представление о нем тех или иных членов общества, точка зрения изучающего. Содержание субъективного метода составляет описание и объяснение политико-социальной реальности через призму отношений субъекта (его мнений, позиций, интересов). Ценностно-нормативный подход — его существенная сторона. Примерами объективного метода служат: наблюдение, сравнение и обобщение явлений и процессов действительности, метод разработки описательных моделей управленческой деятельности и отношений, аналоговый метод и др. А субъективного — разнообразные социологические приемы изучения общественного мнения на предмет отношения и оценки конкретных управленческих действий государственных институтов, метод управленческого эксперимента и др. К этой группе субъективных методов можно отнести совокупность приемов разработки нормативных управленческих моделей, конструирующих образы управления в идеале (как он представляется субъекту).
Объективный и субъективный методы несоизмеримы. Однако они могут быть объединены, так как обусловлены спецификой политико-социальной реальности, воплощающей в себе объективную и субъективную стороны. Тем не менее при объединении неизбежны трудности, в частности, связанные с тем, что субъективный метод предполагает подбор объектов для изучения по усмотрению исследователя, с учетом его представлений об общественных приоритетах и ценностях, потребностях и интересах. Такой подход создает проблемную познавательную ситуацию, подмеченную еще немецким социологом М. Вебером. Суть ее в том, что конструирование объекта исследования (подбор фактов) — субъективный процесс, но результаты исследования должны быть объективными, общезначимыми (научной истиной). Какое же решение предложил М. Вебер? Результаты должны быть получены таким способом, который давал бы возможность подвергнуть их проверке независимо от взглядов и настроений исследователя.
Воплощением единства объективного и субъективного методов изучения и объяснения управленческих процессов служит научно-практический эксперимент. Это — способ получения информации об изменениях в поведении и деятельности субъектов и объектов государственного управления, обусловленных воздействием на них некоторых управляемых и контролируемых факторов. Эксперимент — метод опытной проверки обоснованности и эффективности определенных научных положений и рекомендаций теории. В практике государственного управления — это важный источник эмпирических данных для принятия эффективных решений.
Объективность полученной экспериментальным методом информации может быть обеспечена при соблюдении необходимых требований, установленных теорией социального познания. Отметим некоторые из них. Прежде всего — методологически выверенное определение экспериментального фактора — условия или совокупности условий, рассматриваемых в качестве причины изучаемых изменений управляющей системы, репрезентативность этого фактора. Необходим выбор конкретной экспериментальной ситуации — условий внешней среды, относящихся к эксперименту. Как экспериментальный фактор, так и условия должны быть репрезентативными (типичными, представительными) и максимально приближенными к естественным явлениям и процессам государственного управления. Выбор объекта и предмета эксперимента определяется конкретными проблемами, требующими теоретического и практического решения. Главным образом — это проблемы эффективности государственного управления.
Государственное управление — это социальная (в широком смысле слова) деятельность людей и складывающихся на ее основе общественных отношений. Оно осуществляется в социальной среде и испытывает на себе ее влияние, особенно значительное со стороны социальной структуры общества. В этой связи вполне понятна роль социологических методов в научном познании государственного управления. Политико-социологический анализ позволяет решать многие теоретические и практические вопросы, связанные с разработкой стратегии управления и пониманием социальных потребностей, интересов и ценностей, которые определяют конкретное содержание задач, решаемых государственными органами. Социологические методы — основное средство изучения обратных связей во взаимодействии систем управления и общества. В частности, выражающихся в отношении отдельных социальных групп населения к тем или иным решениям государственных институтов. При помощи социологических методов, в частности эмпирических, выясняется социальная эффективность государственной политики, включая экономическую, правовую систему, политическую и правовую культуру граждан.
Социологические методы в изучении государственного управления важны также потому, что они позволяют опустить научный анализ с макроуровня на микроуровень, т.е. на уровень исследования конкретных отдельных индивидов, их групп и коллективов, их поведения и ориентации в сфере государственного управления. Ведь общая теория — это политическая наука макроуровня. Да иначе и быть не может, поскольку государственное управление не локализовано в какой-то отдельной сфере общества. Оно охватывает все главные сферы, являясь важнейшей общей официальной легитимной формой организации и регулирования жизнедеятельности людей. Понять и объяснить сущность, содержание, принципы и другие проблемы госуправления возможно лишь на макроуровне, чему и служат охарактеризованные выше методологические основы теории. И действительно, сможет ли исследователь осмыслить, например, государственное управление как целостную систему, изучая только поведенческие акты отдельных групп, граждан или даже политических лидеров? Думается, что нет. Эмпирическое исследование зафиксирует определенное отношение респондентов к поступкам, скажем, такого-то лидера в данный момент или к конкретным акциям государственной власти в отдельно взятой ситуации. Но такое исследование не даст нам научной информации о системе в целом, о ее направленности и т.д. О демократичности той или иной системы политического руководства обществом нельзя судить по тому, как демократично ведут себя отдельные группы электората и, тем более, отдельные избиратели, голосуя за предлагаемых политическими объединениями кандидатов. Все это так. Тем не менее общественные действия масс, крупных и небольших социальных групп, деятельность органов и в целом системы государственного управления и управленческие отношения складываются из действий и поведения многочисленных отдельных личностей, руководящих, должностных и рядовых граждан. Посему без изучения их эмпирическими методами невозможно составить общую картину деятельности государства. Следовательно, политико-социологический анализ на микроуровне, не имея доминирующего значения, служит инструментом добывания и накопления фактологического материала для теоретических обобщений, объясняющих феномен государственного управления на макроуровне.
Отмечая важное значение эмпирических методов политико-социологического исследования, нельзя не учитывать возможность проявления субъективизма. Академик Г.В. Осипов в своей статье «Что происходит с социологией?» пишет: «...тревожной особенностью современного этапа развития социологии является то, что эта наука, а вернее псевдосоциология, нередко используется как средство манипуляции сознанием людей для принятия антинародных или квазидемократических решений». Псевдонаучная постановка вопроса на референдуме о суверенитете Украины («Вы за суверенитет Украины или против?») позволила националистическим лидерам республики получить желаемый для них результат. Но Украина была частью Советского Союза. И поэтому, продолжает автор, резонно было бы спросить: "Если Вы за суверенитет Украины, то в составе СССР или вне его?" Если бы вопросы были сформулированы таким образом, то мы получили бы на Украине те же данные, что и при проведении референдума о сохранении СССР» [6].
Отмеченные и множество других примеров, подчеркивает Г. Осипов, «доказывают, что социология в руках националистически и антидемократически настроенных политиков, расхитителей народного достояния России и коррупционеров может превратиться в мощное оружие порабощения сознания людей, превращения их в разновидность манкуртов. Поэтому сейчас, как никогда прежде, ответственность социологов, политологов, в целом обществоведов перед обществом и народом особенно велика».
Литература
1. Шварценберг Р.-Ж. Политическая социология. Ч. I. — М., 1993. С. 8.
2. Мысин Н. Теория социального управления. — СПб., 1998. С. 54.
3. Полис: Альманах. 1997. С. 15.
4. Там же. С. 17.
5. Монсон П. Лодка на аллеях парка. Введение в социологию. — М., 1994.
6. Осипов Г.В. Что происходит с социологией? // Социс. 1997. № 5. С. 13.
Глава 2. Государство — многофункциональная политическая организация общества
Рассмотрение всего комплекса проблем теории государственного управления следует начать с анализа исходной, базовой категории «государство». Несмотря на то, что о государстве написано множество книг и статей, в современной политической мысли отмечается повышенный интерес к этой проблеме. Теоретическая актуальность связана главным образом с усилением практической роли государства во всех сообществах мира. Наблюдается активизация всех функций государства: политической, экономической, социальной и культурологической; возрастает его влияние на процессы современной модернизации обществ. Всеобщая известность понятия «государство», превращение этого понятия в элемент обыденного политического сознания вовсе не означает, что научное знание о государстве стало исчерпывающим, по крайней мере, для современного исторического этапа. Известное еще не есть познанное.
Современные представления о государстве не менее противоречивы, чем те, которые существовали в начале прошлого века. Из-за сложности и запутанности вопроса то, о чем спорили политики и теоретики в прошлом: о происхождении государства, о его роли и соотношении с обществом — остается предметом научных (да и политических) дискуссий и поныне.
1. Два подхода к определению понятия государства
Из многих определений государства, встречающихся в научной литературе, можно выделить два. Первое характеризует государство в самом широком смысле: как высшую форму организации человеческих сообществ; как политический союз людей, подчиненных единой верховной власти; как форму организации, имеющей главной целью выражение единой воли, обеспечение общих интересов, а также защиту прав и свобод человека [1]. В соответствии с другим пониманием, государство — это система политических и правовых связей и отношений между людьми, регулирующих общезначимые виды их поведения и деятельности. Иначе сказать, это — политико-правовой институт, а точнее, система особого типа социальных институтов, образующих организацию политической власти. Позиция, акцентирующая институциональную сторону государства, наиболее четко выражается в сведении его к системе норм, определяющих поведение людей в обществе. Так, испанский политолог Л. Санистебан пишет, что в действительности государство «не больше, чем определенный тип юридически регулируемого социального поведения, существующий в конкретных пространственно-временных условиях» [2].
Понимание государства как высшей формы политической организации общества, как политического союза людей не исключает его институциональное™ и нормативно-правовой основы регулирования социального поведения людей. Коренная черта государства — публичная власть, непосредственно с населением не совпадающая. Однако государство не сводится ни к системе юридических норм, ни к определенному типу нормативно регулируемого поведения, ни, наконец, к публичной власти. Схватывая «действительность государства лишь частично, — отмечает профессор А. Венгеров, — эта абстракция ошибочно претендует на полное отображение государства во всей его многогранности. Между тем такое отображение невозможно также без характеристики государства как определенной коллективности, ассоциации, интегрируемой публично-властными отношениями и институтами» [3]. Именно оно и позволяет представить современный образ государства со всеми его социально-политическими признаками и регулирующими институтами. Современное государство характеризуется определенной, государствообразующей социальной общностью людей, включающей нацию или многонациональное объединение, совокупность классов, других социальных групп и слоев. Национальные и социальные группы в рамках государственной политической формы организации интегрируются в единый народ данной страны, обретающий общие существенные черты образа жизни, общественного сознания и психологии. Этнонаци-ональная и социально-классовая структура сложившегося сообщества — один из главных факторов, определяющих устройство государства.
Государство — территориальная организация общества, характеризующаяся своим социально-политическим пространством. Социальным в том смысле, что территория, занимаемая государством, составляет среду для жизнедеятельности данного сообщества. Политическое — в смысле пространственных границ действия государственной власти. Бытие современного государства связано с наличием единого экономического, а также общих для всех районов данной страны правового и информационного пространств. Политическому государственному союзу присущи общая культурная среда, общий язык (или языки), а также во многих случаях единая религия.
Государство в его широком понимании, как политический союз и высшая форма социальной организации людей, пронизывает все существенные стороны жизнедеятельности общества и отождествляется с ним, выступая в качестве исторически сложившейся объективной формы своего существования. Например, мы говорим: Российское государство, имея в виду Россию — страну, не существующую вне государства. История человечества — череда сменяющихся по воле господствующих классов политических группировок и лидеров, типов государств и правящих режимов. Однако государство как универсальная политико-правовая форма бытия общества, как союз людей, живущих на определенной территории, объединенный некоторыми общими экономическими связями и формами культуры, оставалось. Даже такие коренные перевороты в истории, как революции 1848 г. во Франции и Октябрьская 1917 г. в России не сокрушали и не ставили своей целью уничтожать государство, а лишь качественно изменяли существовавшие тогда в этих странах типы государственного устройства общества. Характерно, что в энгельсовской утопии об «отмирании государства» в «коммунистическом будущем» предполагалась не отмена государства, а естественный процесс угасания его функций как аппарата управления людьми и замена организацией управления вещами.
Будучи универсальной всеобщей формой организации общества, государство выступает в качестве субъекта и объекта самоуправления и управления. Как саморегулирующаяся социальная система государство — субъект самоуправления. Определение государства в качестве субъекта управления предполагает его понимание не в смысле объективной универсальной формы организации общества, а в более узком его толковании — как политико-правового института, как выделенного из общества аппарата управления. Такой подход способствует вычленению из всего государственно-организованного общества его ядра — структуры, являющейся субъектом управления. А именно: публичной и легитимной (нормативно выраженной) властной силы общества (Г. Атаманчук). Эта сила представлена основными органами государства: законодательной власти, исполнительной власти (правительственным аппаратом, административной и финансовой системами, вооруженными силами, правоохранительными и карательными органами, разведывательными организациями и др.), судебной власти.
Государство как политико-правовой институт (система государственных органов) не тождественно обществу в целом, а представляет собой организованную группу людей, осуществляющую от имени общества публичную власть и управление людьми. Попытки втиснуть все многообразие общественной жизни в прокрустово ложе государственных институтов, как известно, — типологическая черта тоталитарных режимов. Государство не должно поглощать гражданское общество. Понятие «гражданское общество» тесно связано с понятием «государство», поскольку они характеризуют различные, но взаимодополняющие стороны глобального общества как единого организма. Гражданское общество включает совокупность политических и неполитических саморегулирующихся видов деятельности и отношений — производственно-экономических, социальных, духовно-нравственных, религиозных и т.д., составляющих жизненную основу государства. Гражданское общество на современном этапе человеческой цивилизации — это общество с развитыми экономическими, социальными, правовыми, духовными отношениями между людьми. Это — совокупность ассоциаций и других организаций, обеспечивающих совместную жизнь граждан, удовлетворение их групповых и индивидуальных потребностей и интересов. На его базе функционирует демократическое государство, являясь официальным выражением гражданского общества, сферой выявления, регулирования и защиты общих интересов социальных групп и граждан.
В контексте теории государственного управления на первый план выдвигается проблема функций современного государства.
Именно проблема, в полном значении этого понятия, проблема, над разрешением которой трудились многие политические мыслители прошлого и которая остается предметом острых дискуссий политиков и теоретиков современности.
Функции государства — это сложившиеся направления его деятельности в важнейших сферах общественной жизни, в которых реализуются и конкретизируются сущность и роль государства в обществе. Функции суть обобщенные, более или менее однородные виды целенаправленного воздействия на общество. Они обусловливаются его историческими типами и конкретно-историческими этапами развития данной общественной системы. В функциях проявляются и объективируются присущие данному типу государства особенности и закономерности развития, состояние и динамика социально-экономических, политических, духовных процессов и отношений [4]. Отсюда исторический характер функций государства, их видов и содержания, свойственных конкретным государственным системам.
Бывшее советское государство характеризовалось функциями, обеспечивающими решение задач создания коллективистского социального строя (хозяйственно-организаторской, культурно-воспитательной и др.). Нынешнее Российское государство преследует иные цели — осуществить капитализацию страны, перестроить систему социально-экономических и других общественных отношений на основе принципов либеральной демократии. Соответственно качественно изменились его специфические функции. Одна из важнейших, новых для нашего общества, — реформирование экономики, превращение ее в рыночную.
В функциях государства находят отражение основные цели его социальных носителей (крупных социальных групп) и реализуются задачи, выражающие объективно-историческое предназначение определенного типа государства.
В свое время К. Маркс писал в «Капитале», что государство в классово-антагонистическом обществе решает задачи двоякого рода: «выполнение общих дел, вытекающих из природы всякого общества, и специфические функции, вытекающие из противоположности между правительствами и народными массами» [5]. Это положение классика сохраняет теоретическое значение для анализа современности. Мировая практика и политическая литература показывают, что современное государство как политико-правовой институт продолжает выполнять традиционную функцию инструмента классового господства. Правящая элита и сегодня формируется в большинстве своем из числа сильных мира сего. О государстве как господстве людей над людьми, опирающемся на легитимное насилие, писал в начале XX в. немецкий социолог М. Вебер. Вместе с тем диапазон функций государства значительно расширился, что связано с изменением его социальной природы и превращением в реальный политический союз граждан, а также в фактического представителя большинства населения конкретной страны. Современное демократическое государство осуществляет широкий круг деятельности, выходящий за пределы интересов отдельных классов, в том числе господствующих. Оно занимается решением общественно-политических проблем, регулированием и преодолением социально-экономических противоречий и конфликтов, включая межклассовые. «Не каждый конфликт, — писал бывший канцлер ФРГ В. Брандт, — является тем, что называли и называют «классовым вопросом». Но это понимание не вытесняет осознание того, что «мы все же до известной степени классовое общество» и «давно проводим в обществе социальную политику, имеющую целью уменьшить классовые противоречия и различия» [6].
Государство в современном обществе — это самостоятельный организм, воздействующий на все стороны общества. В его деятельности заинтересованы не отдельные, а все социальные группы, хотя требования, предъявляемые к этой деятельности, социальные ожидания у различных групп, конечно, различные. Скажем, консервативные круги экономически господствующих групп не заинтересованы в усилении роли государства в экономической сфере, равно как и в социальной. Напротив, малообеспеченные массы выступают за более жесткий и широкий государственный контроль во всех областях общественной жизни.
В современных индустриальных и постиндустриальных общественных системах государство превратилось в многофункциональную, относительно самостоятельную (с широким диапазоном самостоятельности) систему политико-административных институтов, социально-экономических и социокультурных организаций.
Политическая и юридическая науки из всего многообразия функций, выполняемых государством, выделяют основные. Это наиболее общие, важнейшие направления деятельности государства по осуществлению коренных целей и задач, стоящих перед ним в определенный исторический период [7]. В них воплощается общесоциальное назначение государства. Эти функции относятся к деятельности государства в целом, хотя выполняются в разной степени всеми или многими его органами. Объектом воздействия являются не отдельные части общественной жизни и группы людей, а социальная система как единый организм или ее подсистемы (экономическая, социальная, политическая, духовная).
Какие же функции можно отнести к основным, присущим современному государству, в том числе Российскому? Оговоримся, что в конкретных государственных системах они обретают свои специфические модификации.
Прежде всего, функция обеспечения единой государственной власти в обществе. Государство есть институциональная (упорядоченная, закрепленная правовыми нормами) форма бытия общественной публичной власти. Через институты государства осуществляется легитимация власти, реализуется монополия на издание законов, имеющих общеобязательный характер, и применение принуждения для их исполнения. Как система социальных институтов государство существует и функционирует на основе Конституции — свода правовых законов и образцов институтов.
Другая важнейшая функция — управленческая. Государство — управляющая система. Его институты (высшие и региональные органы законодательной и исполнительной власти) осуществляют политическое руководство и административное управление деятельностью социальных субъектов и отношений, связанных с общественными интересами. Объем управленческих функций, масштабы, формы и методы управленческой деятельности государственных институтов зависят от типа государства. Об этом пойдет речь в дальнейшем.
Не менее важная функция государства — интегративная. Она реализуется на базе управленческой. Государство регулирует взаимоотношения социальных групп, коллективов и граждан, добивается достижения общественных компромиссов, обеспечивает определенное единство всех социальных групп и слоев населения, сплачивая их в народ как государствообразующую общность. Основу социально-политического единства народа составляют общие государственные интересы, общепризнанные ценности и цели. Выражение и защита их придает государству и его деятельности политический характер.
Государство осуществляет экстракционную и дистрибутивную деятельность, т.е. его институты и организации занимаются добыванием экономических и других ресурсов, необходимых для своего функционирования, и распределением и перераспределением ресурсов, благ, услуг и символических ценностей (званий, классификаций и пр.). Отсюда хозяйственно-экономическая функция: создание необходимых условий для функционирования и прогресса экономики. Это — правовое закрепление тех или иных форм собственности на средства производства, обеспечение единого экономического пространства, строительство адекватной финансовой системы, проведение соответствующей налоговой политики и т.п.
Одна из главных функций современного государства — содействие воспроизводству человеческого фактора во всех его аспектах: поддержание на соответствующем уровне систем образования, здравоохранения, науки и духовной культуры. В ряде литературных источников она именуется культурно-воспитательной функцией.
Важнейшая функция государства — защита данного общества от разного рода разрушающих (внутренних и внешних) факторов. Речь идет об обеспечении внутренней безопасности членов общества, а также о военной, экономической, информационной, идеологической, экологической, технотронной и др.
Наконец, современное государство существует не в социально-политическом вакууме, а в окружении международного сообщества. Создание благоприятных, с точки зрения государственных интересов, условий международных связей и сотрудничества страны с международным сообществом — весьма значимая функция, успешная реализация которой гарантирует нормальную жизнедеятельность страны и государства.
Отмеченные функции характеризуют взаимодействие государства с обществом в целом, а также с внешней, международной средой. Их реализация зависит от того, как работает государственный организм в своем внутреннем функционировании. В политической науке внутренние виды деятельности государственных институтов объединяются в группу функций конверсионных (преобразовательных). Это прежде всего следующие виды деятельности: а) артикуляция и агрегация интересов, что означает процесс предъявления, выражения и обобщения социальных интересов при выработке государственных решений; б) нормотворчество (разработка норм и правил); в) применение норм и правил; г) контроль за соблюдением норм и правил членами государственного аппарата; д) политическая и административная управленческая коммуникация. В совокупности названные конверсионные функции образуют процесс самоуправления государства.
Набор функций государства определяет его структуру как системы институтов и организаций. Поскольку анализ государственных структур впереди, отметим здесь лишь один момент. А именно: разделение государственных институтов и органов на три группы: 1) непосредственно осуществляющие властные функции (в том числе правоохранительные органы); 2) институты, обеспечивающие разнообразные виды внешней безопасности; 3) система институтов и органов политического руководства и административного управления.
Итак, краткий анализ функций государства показывает, что одной из основных является управление обществом и самоуправление. Проблема состоит, однако, в том, что понимать под государственным управлением? Каковы границы его воздействия на общество? Не ведет ли возрастание роли государственного управления к ограничению или даже свертыванию демократии? Не есть ли практика государственного управления, скажем, экономикой и некоторыми другими сферами социальной жизни, как утверждает Ф. Хайек, «дорога к рабству»? Ответы на все эти вопросы далеко не академического характера мы попытаемся дать при анализе современных концепций роли государства в обществе.
2. Конкурирующие концепции роли государства в управлении обществом
Американские авторы монографии «Эффективность государственного управления» называют «извечным вопросом» в политической науке и практике вопрос о роли, которую органы государственного управления призваны играть в обществе в целом [8]. Актуальность вопроса для нашей страны также очевидна, что обусловлено конкретно-исторической ситуацией, в которой она оказалась в конце столетия. Это — ситуация глобального отказа от советских принципов управления, основанных на огосударствлении всех социально значимых элементов общественной системы, и попыток перехода к принципам, реализуемым государствами Запада. Переходный характер ситуации осложняется специфическим для российской политической элиты впаданием из одной крайности в другую, стремлением заменить тотальное огосударствление социальной жизни полным разгосударствлением. В итоге — системный кризис невиданной (после гражданской войны) разрушительной силы, имевший место в 90-х гг. прошлого века, не до конца преодоленный и в наше время.
Современный мир представляет собой калейдоскоп общественно-политических систем и цивилизаций. Широко известные в международном политическом языке понятия «Восток — Запад», «Север — Юг» — не идеологические термины, а вполне содержательные категории, отражающие и нынешнюю реальность. В пространстве этих мировых противоположностей можно встретить причудливое сочетание разнообразных форм управления процессами общественной жизни: от традиционалистских до самых современных, с широким использованием новейшей информационной технологии. Соответственно весьма разнообразны и взгляды идеологов-теоретиков. В развитых странах сложились и конкурируют следующие концепции, обосновывающие роль государства в управлении обществом: 1) либеральная, признающая основным регулятором общественной жизни свободный рынок; 2) социалистическая, отстаивающая принцип централизованного планового государственного управления; 3) концепция, сочетающая элементы неолиберальной и социалистической.
Либеральная концепция сформировалась в лоне либеральной идеологии — идейно-политического течения, обосновывающего буржуазно-парламентский строй и связанные с ним свободы в экономической, политической и других сферах жизни. В арсенале классического либерализма ведущее место занимала идея предоставления полного простора частнособственнической инициативе и освобождения экономической деятельности от опеки государства. Да и не только экономической. Один из основоположников американского либерализма Джефферсон считал лучшим то правительство, которое меньше всего управляет.
Традиционные принципы либерализма (главным образом либеральной политической демократии) в XX в. модифицировались.
Оставаясь приверженцами свободного рынка как механизма наиболее эффективной экономической деятельности, либералы в то же время стали подчеркивать целесообразность определенного вмешательства государства в экономику для ограничения господства монополий и предотвращения кризисных и конфликтных ситуаций. Впервые этот новый взгляд на роль государства сформулировал английский экономист Дж. Кейнс (1919 г.). Суть его концепции — обоснование государственного регулирования капиталистической экономики как метода воздействия государства на экономику с целью обеспечения бесперебойного ее функционирования в рамках неизменной системы капиталистических общественных отношений. «Нашей конечной целью, — писал Дж. Кейнс, — может быть отбор таких переменных величин, которые поддаются сознательному контролю или управлению со стороны центральных властей в рамках той хозяйственной системы, в которой мы живем» [9]. Дж. Кейнс в качестве основной сферы государственного регулирования рассматривал рыночные отношения.
Учение английского экономиста, объявленного спасителем капитализма, было на практике реализовано президентом США Ф. Рузвельтом в его «Новом курсе», позволившем стране преодолеть «Великую депрессию» (1929-1933). Дж. Неру в своем «Взгляде на всемирную историю» назвал «Новый курс» «великим, увлекающим воображение экспериментом». «Практически Рузвельт в значительной мере, — писал Дж. Неру, — устанавливает контроль государства над промышленностью...» «На деле его меры носят характер государственного социализма, регулирующего рабочий день и условия труда, контролирующего промышленность и предотвращающего "губительную" конкуренцию» [10].
По мере оживления американского бизнеса возрастало сопротивление реформам Рузвельта, контролю государства над ним. Короли промышленности считали реформы покушением на их свободу. Классические принципы либерализма оставались доминирующими для лидеров американского капитала. Они также составляли неотъемлемый элемент политико-экономического сознания господствующей элиты на европейском континенте.
Идеологической и политической реакцией на появившуюся в Европе в условиях мирового кризиса тенденцию контроля государства над экономическими и социальными процессами в виде «социалистического планирования» была работа лауреата Нобелевской премии Ф. Хайека «Дорога к рабству», изданная в Чикаго в начале 40-х гг. Ее можно считать манифестом либерализма XX в. и антисоциализма. Характерно, что свою книгу Ф. Хайек называет политической.
Либерализм, писал автор, — это цивилизация, основанная на принципах индивидуализма. «Его основной чертой является уважение к личности как таковой, т.е. признание абсолютного суверенитета взглядов и наклонностей человека в сфере его жизнедеятельности» [11]. Он противоположен социализму и иным формам коллективизма. Спонтанные и неконтролируемые усилия индивидов «составляют фундамент сложной системы экономической деятельности» — системы экономической свободы и явившейся «побочным продуктом свободы политической».
«Основополагающий принцип» либерализма заключается в том, что, организуя ту или иную область жизнедеятельности, мы должны максимально опираться на спонтанные силы общества и как можно меньше прибегать к принуждению [12]. Не создавать целенаправленно, например, конкуренцию, а принимать социальные институты такими, какие они есть. Принцип г— лучше использовать потенциал спонтанных сил, заключенных в свободном обществе, механизм безличного свободного рынка нельзя заменять, как стремятся сделать социалисты, «коллективным» и «сознательным» руководством, направляющим движение всех социальных сил к заранее заданным целям [13]. Свобода и централизованная плановая экономика несовместимы. Либерализм — это идея, отвергающая регламентацию экономической общественной жизни, не признающая необходимость создания рациональной системы, в рамках которой будут протекать различные процессы деятельности, направляемые индивидуальными планами ее участников. Вопрос сводится не к необходимости разумного выбора типа организации общества, разъяснял Ф. Хайек, что либералы признают, а к неприемлемости централизованной организации и управления всеми процессами деятельности. Либералы решительно возражают против замены конкуренции координацией «сверху». Конкуренция — лучший способ управления деятельностью индивидов; она позволяет обойтись без «сознательного общественного контроля»; исключает вмешательство в экономическую жизнь и допускает лишь «иногда» «определенные действия» со стороны правительства, способствующие развитию конкуренции. Централизованное (читай: государственное) планирование и конкуренция несовместимы, — это альтернативные принципы решения одной и той же проблемы [14].
И как общий теоретический вывод звучит тезис автора: тенденция к монополии и планированию не есть результат каких бы то ни было обстоятельств, а продукт пропаганды определенного мнения, ставшей доминантой политики [15].
Отрицание общественного, государственного регулирования экономики и других действий «атомизированных» индивидов приводит либерала Ф. Хайека к отказу от таких понятий, как «социальные цели», «общественные задачи», «общий интерес» и др. «Легко видеть, — подчеркивает автор, — все эти понятия не содержат ни необходимого, ни достаточного обозначения конкретного образа действия» [16].
Итак, либеральная концепция отвергает необходимость государственного управления экономикой и признает «свободную игру экономических сил». В современной интерпретации — это концепция радикальной неоклассической либеральной модели рыночной экономики. Она строится на полном отрицании государственной собственности и признании только собственности частной, что предполагает резкое ограничение социальной функции государства. Подобная модель государственной политики не является типичной даже в США, где, как известно, 40% рабочей силы занято в государственном секторе экономики.
Неолиберальная концепция подвергается критике в американской политико-экономической литературе. Тенденция к монополии и планированию, обусловленная, вопреки пониманию Ф. Хайека, объективными потребностями современного научно-технического прогресса, находит отражение в идеях видных представителей теоретической мысли. В частности, в работах крупнейшего современного американского экономиста и социолога Дж. Гелбрейта. Автор кроме теоретических исследований многие годы занимался практической разработкой политики государственного регулирования экономики. Он подвергает критике исходное положение модернизированного либерализма — о решающей роли рынка в установлении равновесия в экономике. Дж. Гелбрейт обосновывает необходимость такого вмешательства в экономику, которое направлено на искусственное повышение совокупного спроса, предъявляемого рынком [17]. Он считает, что на экономику решающим образом влияет государство, а также такие социальные институты, как крупные корпорации и профсоюзы. По мнению ученого, не рынок диктует производителю, а, наоборот, крупная фирма диктует свои законы. Стало быть, рынок не является абсолютным регулятором экономики. Государство регулирует экономический процесс, выступая в роли заказчика продукции через контрактные отношения с крупными корпорациями, через «техноструктуру» (функционирующий капитал, отделенный от собственности), управляемую госаппаратом. Дж. Гелбрейт предлагает и описывает «планирующую систему» как форму государственного регулирования (через корпорации) экономики. Он даже выдвигает идею «нового социализма» для Америки, под которым подразумевает систему вмешательства государства в экономическую сферу деятельности.
Несмотря на критику неолиберальной модели экономической политики, правительство России в начале 90-х гг. прошлого века положило эту модель в основу стратегии капитализации страны. Был взят курс на разрушение государственного регулирования экономики. Государство было объявлено антиподом рынку, многие формы централизованного регулирования экономики отвергались, а приватизация госимущества стала главным приоритетом государственных преобразований. В полном противоречии с теорией, с отечественным и зарубежным опытом государственная собственность была квалифицирована как «ничейная», качество ее использования якобы не подлежало оценке по критериям экономической эффективности [18]. «Научной основой» этой политики послужила теория радикального либерализма. Согласно одной из вульгарных версий этой теории, частная собственность объявляется априори и «безусловно» более эффективной, нежели любая государственная, из чего вытекает требование приватизации любого государственного имущества. Тотальное разгосударствление экономики; резкое ограничение регулирующей роли государства и ориентация экономической политики всецело на свободный рынок; уход государства из сферы науки, образования, медицины, культуры, социальной защиты населения — совокупность этих мероприятий президента и Правительства России, проводимых с 1992 г. до августа 1998 г., укладывалась в рамки неолиберальной концепции.
Опыт государственного управления в США, изложенный американскими учеными в энциклопедическом труде «Эффективность государственного управления», опровергает догму об изначальной неэффективности государства, демонстрирует его возрастающую роль в современной общественной системе и ее экономическом базисе. «Функции государственного регулирования суть органическая составляющая современного рыночного хозяйства. В переходной экономике она естественно усиливается» [19].
Социалистическая концепция, а точнее сказать, политическая доктрина государственного социализма сформировалась в результате стечения обстоятельств объективного и субъективного характера. В числе первых — необходимость проведения мобилизационной политики в условиях разрушенных войнами экономики и социальной сферы общества. Субъективная причина — идеологическая концепция, ориентирующая политику государства исключительно на модель «сознательного строительства» социализма, отвергая рыночные отношения как капиталистические. Социалистическая доктрина — прямая противоположность классической либеральной концепции. Она базируется на принципе приоритета политического государства над обществом и личностью, подчинения интересов социальных групп и личности государственным интересам. Ее методологический стержень — первенствующая роль политики по отношению к экономике, что находит выражение в политическом диктате правящей партии как некоего высшего субъекта управления.
Социалистическая концепция в противоположность либеральной признает нераздельное господство общественной собственности и в принципе отвергает частное предпринимательство как источник получения дохода, а также связанный с ними свободный рынок. Если либерализм во главу угла своей стратегии ставит спонтанные, неконтролируемые действия индивидов, исключающие сознательное вмешательство государства в экономические и социальные процессы, и считает конкуренцию лучшим способом управления, то социалистическая концепция — это идея всеобщего огосударствления жизнедеятельности коллективов людей, идея абсолютизации «сознательного», «научно обоснованного» партийно-государственного руководства обществом. Универсальной формой руководства признается государственное планирование. Причем не одной только экономической деятельности, но и социальной сферы, культуры, науки, образования. Вместо свободной конкуренции как движущей силы экономического и социального прогресса здесь основным рычагом стимулирования экономической и социальной деятельности являются административно-командные методы государственного управления. Признается применение вместе с административно-властными и экономическими также политических, идеологических и моральных средств мотивации активности.
В «чистом» виде командно-административная плановая модель государственного управления реализовывалась в бывшем Советском Союзе в период существования сталинского авторитарного режима. В постсталинский период хотя принципы прежней политики в основе своей и не отрицались, но на партийно-государственном уровне предпринимались попытки модифицировать традиционную политику. Это выражалось во временном переходе к территориальной организационной форме управления экономикой (совнархозы), в попытке осуществления экономической реформы, имевшей целью соединить планирование с механизмом рыночных отношений, в проведении известных мероприятий, названных «перестройкой».
Концепция, сочетающая элементы неолиберальной и социалистической моделей роли государства. Она отражает современную объективную тенденцию развития мирового сообщества, характеризующуюся в области политики возрастанием роли сознательного фактора в виде прогнозирующей и планирующей, регулирующей и управляющей деятельности государства. В экономике эта тенденция реализуется в выборе социально ориентированной рыночной экономики. Такая модель строится на свободном сосуществовании разных форм собственности, эффективных социальной и экономической функциях государства, на использовании планирования и прогнозирования. Это направление в развитии политических и экономических систем характерно для ряда европейских, а главным образом — Скандинавских стран. Его же избрали многие страны Арабского Востока и Азии (Турция, Египет, Индия, Южная Корея). Даже Китай, в котором правящей силой является коммунистическая партия, все больше ориентируется в своей экономической политике на соединение плана и рынка, допуская тем самым в экономическую систему сектор смешанной экономики.
В литературе (в том числе международной) фигурирует понятие «белорусская модель», или «белорусский подход». Им обозначается вариант модернизации, избранный Беларусью. Отдельные зарубежные исследователи называют его «самодостаточной авторитарной версией» построения рыночной экономики при «интервенционистском» контроле со стороны государства. Или проще: «построение капитализма в отдельно взятой стране».
В изложении президента Беларуси А.Г. Лукашенко, «белорусская модель» характеризуется следующими чертами:
—государство остается в экономике; в переходный период, каковой в настоящее время переживает Беларусь, роль государства должна усиливаться. «Государство только тогда может считать себя цивилизованным, если оно в трудное время способно надежно защитить интересы подавляющего большинства населения. Роль государства в переходной экономике... должна сводиться к эффективному контролю и регулированию практически всех процессов, которые происходят в экономике»;
—страна строит «экономику многоукладную»; идет «от экономики с господством только государственной собственности к многоукладной экономике»;
—«белорусская модель» не отвергает планирование; многие страны мира ныне опираются на «мощную систему не только прогноза, но и планирования»;
—«белорусская модель» — это «осторожный, прагматический, эволюционный подход к реформированию, точнее, к.совершенствованию нашей экономики». «Мы понимаем реформы как эволюционный путь преобразований, а не обвальный»;
—«белорусская модель предполагает формирование социально ориентированной, многоукладной рыночной экономики с равноправным функционированием государственной и частной собственности, с различными формами хозяйственно-акционерной, коллективной, арендной и другими».
Прошедшие годы преобразований по «белорусской модели» принесли известную экономическую стабилизацию и прирост валового внутреннего продукта, хотя и не свидетельствуют о ее серьезных преимуществах.
Из анализа рассмотренных концепций вытекает общий вывод: функция управления, свойственная природе государства, в большей или меньшей мере признается всеми направлениями современной политической мысли и практически реализуется во всех моделях политики, в том числе неолиберальной. Так что традиционные определения типа: «власть управляет», «форма правления», «демократия — форма правления народа» и другие — адекватно характеризуют современные государственные системы.
Литература
1. Зеркин Д. Основы политологии. — Ростов н/Д, 1997. С. 139.
2. Санистебан Л. Основы политической науки / Пер. с исп. — М., 1992. С. 22.
3. Венгеров А.Б. Теория государства и права: Учебник для юридических вузов. М., 1998. С. 94.
4. Мату зов Н., Малько А. Теория государства и права. — М., 1997. С. 61-62.
5. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 25. 4.1. С. 422.
6. Брандт В. Демократический социализм: Статьи и речи. — М., 1992. С. 127.
7. Матузов Н., Малько А. Указ. соч. С. 62-64; Венгеров А. Указ. соч. С. 160-170.
8. Эффективность государственного управления. — М., 1998. С. 101.
9. Цит. по: Экономическая энциклопедия. Политическая экономия. — М., 1993. Т. 2. С. 132.
10.Неру Д. Взгляд на всемирную историю. — М., 1981. С. 390.
11.Хайек Ф. Дорога к рабству. — М., 1992. С. 19.
12.Там же. С. 21.
13.Там же. С. 24.
14.Там же. С. 38.
15.Там же. С. 39.
16.Там же. С. 49.
17.Гелбрейт Дж. Экономические теории и цели общества. — М., 1979. С. 8.
18.Батников С, Глазьев С. За ликвидацию неграмотности в органах государственной власти // Экономическая эффективность государственного управления. С. 7.
19.Там же. С. 11.
Глава 3. Понятие государственного управления и его объективная необходимость
Государство по природе своей есть организация политической власти и управления. Власть и управление — две основные, неразрывно связанные функции государства. Власть как способность одних групп общества навязывать свою волю всему обществу существовала и существует постольку, поскольку является орудием управления людьми. В основе политического господства повсюду лежало отправление какой-либо общественной должностной функции, и политическое господство оказывалось длительным лишь в том случае, когда оно эту общественную функцию выполняло [1]. Поэтому надо признать корректным определение государства в собственном, узком смысле понятия как основного института политической системы классового общества, осуществляющего управление обществом, охрану его экономической и социальной структуры [2].
1. Понятие государственного управления
Как явствует из рассмотренных концепций роли государства, предмет дискуссии сводится к проблеме соотношения экономической и политической свободы, с одной стороны, и, с другой, рационального, целенаправленного воздействия государства на экономику и социально-политическую жизнь в форме управления, ограничивающего свободу рамками общих интересов, иначе говоря, общественной необходимостью. Причем свободная деятельность индивидов и складывающиеся на ее основе общественные отношения отождествляются со спонтанно, стихийно саморегулирующимися процессами. А регулируемые и управляемые государством процессы рассматриваются исключительно как принуждаемые властью, контролируемые ею извне, парализующие спонтанные механизмы саморегуляции. Свобода несовместима с общественной необходимостью, выражаемой государственной волей, с государственным управлением, реализующим общий интерес.
Наш подход к анализу государственного управления состоит в признании его как объективно необходимой функции государства, как рациональной деятельности, не исключающей свободу, а являющейся общественно-политической формой ее выражения и осознанной реализации общественной необходимости.
Мы рассматриваем государственное управление в широком социально-политическом смысле как тип социального управления в сфере государственной жизни общества. Это деятельность государства по осуществлению его властной и других функций всеми органами, институтами всех ветвей власти, но в различной мере и в различных формах. Государственное управление в настоящем исследовании — категория многоплановая: социальная, социально-политическая и политико-правовая.
Развиваемая концепция не исключает более узкое понимание государственного управления, определяемого в новой юридической литературе лишь как форма осуществления функций государства, как вид государственной деятельности, в рамках которого практически реализуется исполнительная власть [3]. Такой подход аргументируется тем, что понятие «государственное управление» не содержится в Конституции РФ, в связи с изменением задач и функций современного типа Российского государства, отказавшегося от тотального управления обществом. Оно заменено понятием «исполнительная власть». Вместе с тем ученые-юристы справедливо подчеркивают, что «государственное управление — реальность, без которой не может работать государственный властный механизм. Но Конституция и действующее законодательство Российской Федерации не предложили синонима государственному управлению...» [4]. Не покрывает это понятие и система разделения властей. «Государственное управление» — более широкая категория, чем исполнительная власть. И не случайно она сохраняется в некоторых российских законодательных актах и используется в Указах Президента РФ [5]. Не отказывается от него законодатель в зарубежных странах, а тем более авторы научных исследований.
Итак, перейдем к анализу обозначенной в плане проблемы.
В научной и учебной литературе нет общепризнанного однозначного понимания категории «государственное управление». Известный ученый-государствовед профессор Г.В. Атаманчук определяет его как практическое организующее и регулирующее воздействие государства на общественную жизнедеятельность людей в целях ее упорядочения, сохранения или преобразования, опирающееся на властную силу [6], Б.Н. Курашвили - как деятельность всего государственного аппарата по регулированию общественных отношений, по управлению как общественными, так и собственными делами [7]. Ряд авторов определяют понятие «государственное управление» как практическую организующую деятельность государства на основе и во исполнение законов, состоящую в осуществлении исполнительно-распорядительных функций непрерывно действующим аппаратом управления [8], другие - как организующую, исполнительно-распорядительную деятельность, осуществляемую на основе и во исполнение законов и состоящую в повседневном выполнении функций государства [9]. Последнее определение в отличие от предыдущих, как видим, является более узким, во многом сводит государственное управление к исполнительно-распорядительной деятельности. Близкую позицию в этом отношении занимает и профессор А.И. Радченко, который дает такое определение: «под государственным или муниципальным управлением понимается деятельность государственного или муниципального исполнительно-распорядительного органа по воздействию на объект управления для его перевода в состояние, необходимое для достижения цели соответствующего территориального образования, посредством принятия решений (правовых актов), организации и контроля исполнения этих решений (актов) и решений (актов) органов законодательной (представительной) власти» [10].
Более предпочтительными нам представляются определения понятия «государственное управление», сформулированные нами в первом издании данного курса лекций (2000 г.) [11], а также в учебнике Н.И. Глазуновой 2002 и 2004 гг.
По нашему мнению, государственное управление — специфический тип социального, которое представляет собой воздействие на общество с целью его упорядочения, сохранения качественной специфики, совершенствования и развития.
В определении понятия государственного управления должно быть теоретически выражено общее и специфическое, характерное для его сущности как политико-административного воздействия государственных властных институтов на общество. В соответствии с этим подходом можно сформулировать следующую дефиницию: государственное управление— это сознательное воздействие государственных институтов на деятельность общества, его отдельных групп, в котором реализуются общественные потребности и интересы, общезначимые цели и воля общества [12].
Близка к данному определению и позиция крупного государствоведа профессора Н.И. Глазуновой, согласно которой «государственное управление — это целенаправленное организующе-регулирующее воздействие государства (через систему его органов и должностных лиц) на общественные процессы, отношения и деятельность людей» [13].
Во многом схожее определение дается и Г.Л. Купряшиным, по мнению которого «государственное управление — это деятельность по реализации законодательных, исполнительных, судебных и иных властных полномочий государства в целях выполнения его организационно-регулирующих и служебных функций как в обществе в целом, так и в отдельных его частях» [14].
В содержании сформулированного определения понятия зафиксировано единство общего, свойственного социальному управлению — сознательное, целенаправленное воздействие на социум, и специфического для государственного управления: особенный субъект, отличительные его цели, а также — объект управляющего воздействия. Субъект управления — государственные институты — организации специальных групп людей, наделенных необходимыми для управленческих действий властными полномочиями и действующих от имени общества и каждого гражданина на основе установленных правовых норм. Объект государственного управления — общество в целом или его отдельные группы, общественно-политические, экономические, культурные и прочие организации, их деятельность.
Управляющее воздействие государственных институтов — это целенаправленное воздействие на естественное состояние общества в интересах классов и других больших социальных групп, стремление придать ему организованное функционирование в соответствии с установленными нормами, обеспечить его адаптацию к изменяющимся условиям среды, а также возможное его совершенствование и развитие.
Сознательное воздействие на общество и его группы, на отдельных граждан с целью направления их поведения и деятельности в русло общественно политически необходимого и целесообразного
—существенная черта государственного управления. По своему содержанию оно многогранно: это — деятельность, ориентированная на достижение разнопорядковых, разнокачественных целей; на организацию общественной системы и сохранение (воспроизводство) существующего состояния общественных отношений; это — перевод управляемого объекта из состояния статичного, традиционного в динамичное, прогрессивное, из малопредсказуемого — в предсказуемое, из остроконфликтного — в ситуацию разрешаемых конфликтов; это — обеспечение условий для расширения свободы общества и личности и т.д. Так, перед государственным управлением современной России объективно стоят многие задачи глобального социально-политического и экономического характера, а также конкретного плана — осуществления оптимальной для страны модернизации. Управление крупными социальными группами
—классами и другими общностями, идентифицирующими себя с различными культурами (главным образом с русской православной и мусульманской), группами населения, ориентирующимися на западноевропейские либеральные ценности и приверженными советским социалистическим ценностям, связано с решением комплексных проблем. На первом плане — проблемы сохранения государственного единства.
Подводя итоги вышесказанному, можно выделить следующие свойства, присущие государственному управлению, на которые особое внимание обращает Н.И. Глазунова:
1.Субъект целенаправленных, организующих и регулирующих воздействий - государство. Характер государственного управления в конкретное историческое время определяется характером, конституционными основами (принципами) развития государства. Государство как мозговой центр дает импульсы — приказы государственному управлению — своего рода «нервной системе» общественного организма.
2.Государственное управление опирается на властные полномочия и представляет собой способ реализации государственной власти, которая распространяется на все общество (и на другие сообщества в рамках проводимой государством международной политики). Законы, иные нормативные правовые требования, устанавливаемые государственной властью - общеобязательны, обеспечиваются авторитетом силы государства.
3. Специфику государственного управления составляют характер и объем охватываемых управлением общественных явлений. В центре государственного управления — решение общих дел, согласование действий всех граждан, защита совместного интереса, удовлетворение потребностей общества, а не отдельных граждан и социальных групп.
4. Комплекс методов и средств государственного воздействия составляют не только правовые, политические, экономические (регулирование, согласование, убеждение, стимулирование и т.д.), но и принуждение с помощью сил правоохранительных государственных органов. Государственная власть и управление в источнике имеют правовую и политическую обусловленность (легитимность), а в реализации — силу госаппарата, обладающего и средствами принуждения [15].
Заслуживает внимания и высказываемое данным автором положение о том, что в широком смысле государственное управление как система означает непосредственное осуществление государственной власти: принятие политико-государственных решений и их реализацию, контроль за соблюдением в обществе правозаконности и правосудие. Субъектом государственного управления выступают законодательные органы государственной власти, исполнительные органы государственной власти, органы суда и прокуратуры [16].
Государственное управление — это вместе с тем самоуправление по отношению к самому государству и социальной системе в целом, где действуют и стихийные регуляторы общественных процессов, не охватываемые рациональной деятельностью государства.
В научной литературе и в практике государственных органов наряду с понятием «государственное управление» используется понятие «государственное регулирование». Причем имеется в виду их существенное смысловое различие. С точки зрения неолибералов, как отмечалось выше, допустимо в весьма ограниченных рамках государственное регулирование, например, экономики, но исключается государственное управление экономикой и другими социальными процессами. Многие российские экономисты, противопоставляя свои нынешние взгляды представлениям, господствовавшим в советское время, отказались от понятия «управление экономикой», заменив его понятием «регулирование экономики». Российское правительство, пришедшее к власти после катастрофических августовских (1998) событий, взяло курс на усиление «государственного регулирования» экономики, однако в его заявлениях не встречается понятия «государственное управление». Стало быть, в трактовке Правительства данные понятия принципиально различны.
Нам представляется, что противопоставление понятий «регулирование» и «управление» вообще некорректно с точки зрения их смыслового содержания. Согласно Толковому словарю русского языка, одно из значений термина «регулирование» — управлять, руководить. Наряду с ним данным термином может обозначаться:
а) воздействие на что-либо с целью достижения нужных результатов;
б) подчинение того или иного действия определенным правилам.
Семантическая трактовка терминов не всегда соответствует современной практике их функционирования в языке, тем более политическом. Однако она может служить аргументом понимания рассматриваемых терминов как синонимов. Или, скажем, в смысле обозначения термином «регулирование» одного из видов управляющего воздействия, либо формы управления, либо его момента. Необходимо учитывать зафиксированный в научном языке акцент в интерпретации понятия «регулирование» на внутренних механизмах функционирования системы в рамках установленных управляющим субъектом правил (регламента), что обеспечивает поддержание ее устойчивости.
Понятие же «управление» обозначает преимущественно внешнее (исходящее от субъекта) целеполагающее воздействие на систему, воздействие, являющееся фактором сохранения и стимулирования определенной направленности саморазвития системы. Регулирование предполагает создание необходимых условий для спонтанного действия внутренних закономерностей и механизмов системы. Например, для предупреждения конфликтов или примирения конфликтующих сторон. Управление означает подбор и целенаправленное использование методов и средств, а также разработку технологий действия государственных институтов для достижения планируемых результатов (изменения системы, урегулирования и разрешения конфликтов и пр.). Отмеченные нюансы в смысловых различиях анализируемых понятий нельзя не учитывать, равно как и ошибочно было бы преувеличивать и, тем более, строить на таком понимании противоположные политики [17].
Верна мысль ученых-специалистов по административному праву: между государственным управлением и государственным регулированием «нет принципиальных различий по целевому назначению». Мало того, по своей сути регулирование — непременный элемент государственного управления, одна из его функций. Различие государственного управления и государственного регулирования «в значительной степени условно», ибо, управляя, государство регулирует, а регулируя, управляет [18].
Теория социального управления выявила и описала два типа механизмов регуляции поведения людей в обществе: сознательное (рациональное) и стихийное регулирование. Сознательное регулирование и есть социальное, в том числе и государственное управление. Суть стихийного механизма в спонтанном, самопроизвольном (автоматическом) регулировании процессов поведения и деятельности социальных субъектов, не требующем вмешательства государственных или каких-либо других управляющих сил. Таковым выступает, например, так называемый свободный рынок с его регулирующим механизмом конкуренции. Мы говорим «так называемый» потому, что в реальности ныне рынок в развитых странах в основном управляемый.
И наука социального управления, и мировая практика доказали, что по мере усложнения общественных и политических систем возрастает роль рациональных механизмов регуляции, включая государственное управление. Вместе с тем не прекращают действовать и играть свою роль механизмы спонтанного (стихийного) регулирования. Поэтому, подчеркивая значение рациональных факторов регуляции, не следует сбрасывать со счета и факторы стихийного действия. Отметим одно из важных методологических положений, которое, по нашему мнению, должно быть руководством при анализе места и роли государственного управления в обществе. А именно: государственное управление как рациональная, целеполагающая деятельность не охватывает всю совокупность деятельностей общества по самоуправлению. Спонтанная саморегуляция общественной жизни также является необходимой формой и аспектом самоуправления социальной и политической систем. Это положение в теории социального управления сформулировано в виде принципа «ограниченной рациональности» [19].
Государственное управление слагается из совокупности взаимосвязанных типичных действий, образующих структуру управленческого процесса. Это анализ конкретной ситуации; выбор целей; прогнозирование, разработка государственной стратегии и планирование деятельности по осуществлению выбранных целей, намеченной стратегии; информирование управляемого объекта; организация; координация; активизация (мотивация, стимулирование); регулирование; контроль; обобщенней оценка результатов управления. Указанные виды деятельности называют функциями управления, совокупность которых составляет его содержание. Функции управления — это основные виды управленческой деятельности, порождаемые разделением труда в процессе управления [20]. То есть те, которые в обязательном порядке необходимо производить в ходе принятия и исполнения управленческого решения. В зависимости от последовательности реализации функций управленческий процесс разделяется на этапы (фазы).
В литературе встречаются различные классификации функций управления, даже взаимоисключающие. Так, О.Ф. Шабров в своей книге «Политическое управление» отмечает две основные функции: власть и контроль. Они конкретизируются в пяти «независимых» функциях: принятии решения, организации, регулировании (контроле сверху), учете и обратной связи (контроле снизу). Наличие цели, по мнению автора, для управления необязательно. Целеполагание не является необходимой функцией управления [21]. Возможно, это и так, если речь идет об управлении как всеобщей закономерности. По отношению же к социальному управлению, тем более государственному, можно считать широко принятым определение его как процесса «целесообразного и целенаправленного» (В.Г. Афанасьев). И не только в литературе отечественной. Известный германский специалист в области теории управления кадрами И. Хетце первой функцией управления кадрами называет «постановку цели». Определение цели — составная часть (фаза) принятия решения. Его подход к трактовке функций вытекает из определения управления как процесса целенаправленного влияния на поведение отдельного члена группы со стороны другого (или других) членов группы [22].
Функции государственного управления, понимаемого как процесс целенаправленного воздействия государственных органов на общественные объекты, характеризуются общими и специфическими признаками. В основном совпадает с социальным управлением набор функций, их последовательность в управленческом процессе, что объясняется единой социальной сущностью сравниваемых институтов. Специфика функций государственного управления определяется главным образом субъектом, а также, в определенной мере, и объектом управления. Государство как выделенный из общества аппарат управления, обладающий публичной властью, во-первых, придает функциям управления политический аспект (ориентацию на общие интересы и общие цели); во-вторых, увязывает их реализацию с механизмом власти; в-третьих, исходит из того, что основной субъект функций — официальная общественно организованная группа (государственный орган, институт).
Можно согласиться с Н.И. Глазуновой, что «функции государственного управления — это совокупная, общественно и объективно необходимая деятельность всей системы госуправления по реализации функций государства, содержание которых имеет пространственно-временную форму выражения» [23].
Функции государственного управления, как и управления в целом, весьма многообразны. Согласно теории управления, в основе классификации функций управления могут лежать различные основания. Применительно к государственному управлению, как отмечает Н.И. Глазунова, по объему управляющего воздействия можно выделить четыре уровня функций: функции воздействия на общество в целом; функции той или иной ветви государственной власти (исполнительной, законодательной, судебной) как административное управление государственными делами; функции конкретного государственного органа, публичной службы; функции индивидуального должностного лица [24]. По уровню управляющих органов — функции федеральных органов власти и управления, функции регионального государственного управления; функции органов местного управления и органов местного самоуправления. По сфере управления функции можно классифицировать на политические, административные, специфические, отраслевые, специальные, специализированные, особенные. По соотнесению с главными целями (задачами) госоргана можно выделить главные, общественно значимые функции и обеспечивающие, вспомогательные, частные.
Заслуживает внимания и классификация функций государственного управления в зависимости от целей (задач) внутриорганизационного характера, предложенная известным ученым-государствоведом Д.Н. Бахрах:
1)ориентирование управляемой системы — прогнозирование, планирование, нормативное регулирование, методическое руководство и т.д.;
2)обеспечение системы — кадровое, материально-техническое, финансовое, организационное, информатизационное и др. [25];
3)оперативное управление системой — непосредственное регулирование деятельности, учет, контроль, оценка и др.
Н.И. Глазунова предлагает несколько дополнить эту весьма продуманную классификацию, в частности, включить в первую группу программирование, информирование, анализирование, консультирование, в третью — координацию, коррекцию.
Обращает на себя внимание и классификация функций управления, выполняемых органом, подразделением, должностным лицом, предложенная Ю.А. Тихомировым с учетом их самостоятельности в выполнении стоящих перед ними задач: руководящие функции; регулирующие; расчетно-информационно-аналитические; организационные; контрольные функции [26].
Характеризуя общие функции государственного и муниципального управления, среди них следует прежде всего выделить, на наш взгляд, следующие.
Целеполагание, выработка и принятие нормативных правовых актов — определяющая функция управления. В структуре государственного управления она приобретает специфические признаки. Цель — это идеальный образ будущего результата деятельности. Ее формирование предполагает наличие знания тенденций общественного развития, общественных потребностей и интересов социальных групп и граждан, а также выработку с учетом их и принятие нормативных правовых актов, легитимацию правил поведения органов власти и управления, юридических и физических лиц. Важно, что субъект не сможет сформулировать и достичь реальных целей, если он не будет опираться на знание конкретной ситуации, в которой он и управляемые живут и легитимно действуют в данное время и в данном секторе социального пространства (территории страны). Поэтому целеполагание предваряет конкретный анализ конкретной ситуации — комплекса условий, складывающихся в данный момент времени.
Он позволяет выявить происходящие изменения социальной среды и внутри государства, осмыслить существующие противоречия и конфликты в обществе и на этой основе точнее определить приоритетные потребности и интересы управляемых.
Знание ситуации необходимо также для эффективной реализации не только правотворческих, но и правоприменительных функций и для прогнозирования, что составляет существенную сторону научной базы целеполагания.
Правоприменительные функции — обеспечение строгого соблюдения действующего законодательства, нормативных правовых актов, ведение регистров, реестров, кадастров.
Прогнозирование (от греческого prognosis — предвидение, предсказание) — это объяснение возможных состояний и изменений социальной системы, политических институтов в определенных границах социального времени и пространства. Социальный (и политический) прогноз — результат прогностической деятельности есть вероятностное суждение о будущем состоянии данной социальной системы, ее государственной организации с указанием определенных сроков их изменения.
Целеполагание и прогнозирование венчает разработка государственной стратегии: определение и официальное утверждение приоритетных целей, а также «древа» других главных целей и основных путей их достижения. Прогнозирование и разработанная на основе составленного прогноза стратегия служат базой планирования — неотъемлемой функции государственного управления.
В процедуре планирования намеченные цели приобретают практическую форму: они конкретизируются в задачах. Последние представляют собой вполне определенное выражение осознанной необходимости реально осуществить данные цели в данных конкретных условиях.
Информирование — одна из ведущих функций в государственном управлении. Информация как форма сообщения определенных сведений (знаний) об общественных процессах, о правилах «игры» в данной политической системе — одна из основ управления. Управляющий субъект не может обойтись без информирования объекта о содержании целей, стратегии, намеченной программы действий. Ведь в качестве объекта выступают человеческие коллективы и личности, их совместная деятельность. Управление ими предполагает воздействие на сознание людей, формирование рационального понимания ими общих интересов и общих целей и трансформацию в мотивацию собственной активности. В механизме политического, правового, морального воздействия на управляемых ведущее место занимают средства информационные, ценностно-ориентационные, символические: идеи, призывы, лозунги, нормы, предписания, традиции. Язык как информационная система, особенно политический, — орудие управления. Такие политические символы, как государственный герб, знамя, гимн, номинации, государственные награды, политическая терминология, — неотъемлемый элемент управленческого процесса. В политике, например, слова, язык, как отмечает французский социолог П. Бурдье, конструируют политическую реальность в той же мере, в какой они ее выражают. Поэтому слова, названия являются исключительными ставками в борьбе за навязывание легитимного видения политического и социального бытия.
Функция организации — совокупность действий по налаживанию взаимосвязей между людьми, объединяющих их для совместной реализации целей и программ управляющего субъекта. Это — способ упорядочения действий групп и индивидов на основе общепринятых норм и ценностей — политических, правовых, нравственных, религиозных и др. Организация есть процесс, обеспечивающий управление, это также и форма бытия управляющих и управляемых. Создание тех или иных организаций людей как автономных групп, ориентированных на осуществление конкретных целей и программ, — составная часть управленческого процесса. Каждой социальной и политической системе свойственны определенные типы и виды организации общественной жизнедеятельности и отношений. Специфические формы организации характеризуют и различные сферы управления. Выбор форм организации обусловлен целями и задачами управляющего субъекта, а также возможностями их легитимации — одобрения государством и обществом.
Функции координации и регулирования — логическое продолжение организующей деятельности. Координация — действие, направленное на согласование разнообразных форм и видов активности общественных субъектов. Регулирование — способ осуществления необходимой организованности людей; форма воздействия на сферу интересов социальных групп и индивидов, согласование этих интересов между собой и с общими, государственными интересами, смягчение и разрешение противоречий и конфликтов в обществе. Мотивирующее, принудительное, организующее и воспитательное воздействие на поведение людей норм права, других социальных норм — средство регулирования социальной деятельности и общественных отношений всех видов.
Функция активизации управляемых обеспечивается в общем плане всеми другими функциями, но преимущественно специфическими средствами влияния на развитие общественно-деятельной активности: материальными и духовными, экономическими, социально-политическими, правовыми, информационными и др. стимулами, совокупностью ценностных мотиваций деятельности.
Функция контроля и надзора за исполнением управленческих решений, принятых нормативных правовых актов, правил поведения, регламентов предполагает широкое использование эффективного учета и отчетности как средств контроля, обобщения и оценки результатов управления, обеспечения связи управляющего действия с ответственностью участников этой важнейшей сферы деятельности государства.
Итак, государственное управление как деятельность многопланово. В сущности же своей — это деятельность целенаправляющая, организующая, регулирующая, активизирующая и контролирующая, подчиненная решению общественно значимых задач. Это и комплекс специфических, управленческих отношений, складывающихся внутри управленческой системы.
Функции управления могут служить основанием для классификации видов управленческих действий, видов той или иной работы, выполняемой органами государственной власти и управления. При этом сами функции управления не следует отождествлять или смешивать с конкретными перечнями работы, выполняемой в связи с их выполнением.
Если учесть все функции государственного и муниципального управления, выделенные по различным основаниям классификации российскими и зарубежными учеными и практиками государственного строительства, то численность этих функций даже при всех возможных повторах не превысит полсотни. В связи с этим вызывают удивление подсчеты российской правительственной комиссии по административной реформе, возглавлявшейся до марта 2004 г. Б. Алешиным, в то время вице-премьером Правительства РФ, которая насчитала 5,6 тысяч «государственных функций» у 93 министерств и ведомств Российской Федерации. Из 4 тысяч «государственных функций», проанализированных комиссией к февралю 2004 г., 1700 признаны либо избыточными, либо дублирующими, либо требующими сокращения масштабов исполнения [27].
Одно из принципиальных предложений комиссии — реорганизация контрольно-надзорных функций государства. Контроль предлагается передать бизнесу, а надзор сосредоточить в нескольких надзорных органах, при этом они должны быть выведены из состава министерств. Предполагается, что будут сформированы надзорные органы в области транспорта, охраны природы, атомной энергетики и других. Прорабатывается и такой вариант, при котором федеральная система будет делегировать надзорные полномочия на региональный уровень.
По мнению комиссии, многие обязанности, которые лежат сейчас на плечах государства, могут быть делегированы бизнесу без потерь для управления, для экономики и граждан. Например, проведением технического осмотра автомобилей вполне могут и должны заниматься частные предприятия, еще одна лишняя функция МВД, по мнению вице-премьера, — вневедомственная охрана, которая вполне может переместиться в бизнес. Избыточные функции нашли члены комиссии также в МЧС, Минтруде, Минздраве и других министерствах.
Конечно, освобождать министерства и ведомства от тех видов работы, которые не связаны непосредственно с исполнением ими функций органов государственной власти и управления, сокращать их аппарат, повышать эффективность и деятельность необходимо. Однако не следует смешивать с такими видами работы собственно функции государственного управления.
***
Государственное управление по природе своей политическое. Его субъектом являются государственные институты — основной элемент политической системы общества, а главное орудие — государственная власть. Политический характер государственного управления присущ любому современному сообществу, любой стране. Не исключение и Россия. Попытки многих представителей правящей элиты представить федеральные и региональные органы власти и управления как неполитические структуры, объединяющие профессионалов-управленцев, не имеют ни теоретических, ни практических оснований.
Чем обусловлено акцентирование политического характера государственного управления в России? Назовем такие факторы:
а) переходное состояние российского общества, когда еще окончательно не определились перспективы его исторического развития, а способы модернизации, предложенные правящими силами, во многом не согласуются с конкретно-историческими условиями, в которых живет страна;
б) насыщенность нынешнего российского общества социально-политическими, экономическими, межнациональными и региональными противоречиями и конфликтами;
в) идеологический, духовный раскол общества — на красных и белых, реформаторов и консерваторов, коммунистов и антикоммунистов-демократов и пр. Управленческие действия государственных органов, Какой бы сферы жизни они ни касались, в той или иной мере неизбежно приобретают определенный политический аспект либо вызывают (непосредственно или косвенно) какие-то политические последствия. Конкретные решения государственных институтов могут способствовать удовлетворению интересов одних слоев населения и ущемлять интересы других, разрешать или усиливать напряженность определенных социальных противоречий и конфликтов. Поэтому выбор вариантов решений, определение средств их исполнения, весь процесс управленческого действия, если его субъект стремится к положительным, общественным результатам, должен учитывать возможный политический резонанс своих деяний.
Говоря о политической природе государственного управления, мы отвергаем былую всеобщую политизацию управляющих структур и их любых действий. Государственными органами осуществляется множество управленческих действий, принимаются сотни и тысячи решений по самым различным вопросам жизнедеятельности людей. Одни из них — по вопросам общегосударственным, затрагивающим интересы больших социальных групп, другие — по вопросам организационного характера, относящимся к компетенции отдельных административных, хозяйственных и прочих структур. Первая группа решений относится к политическим, а вторая — к административно-управленческим, хозяйственно-организаторским и прочим, могущим иметь лишь косвенное отношение к общегосударственным интересам или в крайнем случае порождать определенные политические последствия в будущем.
Управленческая деятельность, связанная непосредственно с решением проблем политического характера, обозначается понятием «политическое руководство». Это наиболее высокий уровень государственного управления обществом в целом. Оно должно учитывать интересы всеобщие государственные, национальные, больших социальных групп (классов и др.). Политическое руководство — это руководство объединенной деятельностью значительной части членов общества по осуществлению интересов и целей государственного масштаба. Его содержание составляют такие главные элементы:
а) обеспечение оптимально возможного согласования и сочетания различных групп интересов (общегосударственных, региональных, классовых, корпоративных, личных);
б) определение приоритетных в данной конкретной политической ситуации групп интересов;
в) выбор в соответствии с приоритетными интересами общих стратегических целей, определение политического курса и основных сил и способов его осуществления;
г) решение вопросов, связанных с поиском, накоплением и распределением материальных и других видов ресурсов, необходимых для решения жизненно важных для общества проблем;
д) обеспечение внутренней и внешней безопасности членов общества, государства.
Политическое руководство есть деятельность прежде всего ведущих органов государственной власти, а также правящих политических партий и объединений. Оно должно быть направлено на урегулирование и разрешение общественных противоречий и конфликтов и обеспечение единства общества и целостности государства. Направляющий фактор в политическом руководстве — концептуальная (основополагающая) идея, в абстрактной форме отражающая объективные потребности общества-государства и обосновывающая его коренные интересы. Разработка этой идеи, конкретизация ее в программе деятельности государства составляют сущность рациональности политического руководства.
Политическое руководство не функционирует вне исполнительных органов власти, а реализуется посредством их деятельности, иначе говоря, через административное управление. Это — нижестоящий, по сравнению с политическим руководством, уровень управления. Его непосредственным субъектом являются исполнительно-распорядительные органы (аппараты) государственной власти и управления (так называемые силовые, административно-организационные, организационно-хозяйственные, учебно-воспитательные и др.), а объектом — конкретные коллективы людей, занятых в различных сферах экономической, социально-политической, культурной, военной и пр. деятельностях.
Содержание административного управления составляет организационно-исполнительская деятельность по реализации функций государства, включающая организационно-регламентирующую, организационно-хозяйственную, организационно-социальную, организационно-культурную и другие виды управленческой деятельности. Организационная, распорядительная и контролирующая деятельности органов исполнительной власти, подчиненные решению конкретных проблем в различных областях общественной жизни населения, и образуют административное государственное управление. Действие субъекта административного управления служит осуществлению государственной политики в отдельных областях государственной и общественной жизни; оно охватывает в каждом конкретном акте своим влиянием лишь определенную часть жизнедеятельности общества, а не целое. В отличие от политического руководства, административное управление всецело регламентируется правовыми нормами. Его нормативная база — административное право.
В административном управлении имеет существенное значение технологический аспект. А многие виды административной деятельности являются технологическим управлением (в смысле неполитического). Например, кадровая работа внутри государственных предприятий и учреждений, регулирование финансовых и других материальных ресурсов и пр.
Полной противоположности политического руководства и административного управления в реальной жизни нет, поскольку это два уровня одного и того же государственного управления. Политические решения для своей реализации требуют действия аппаратов административного управления. В свою очередь деятельность последних осуществляется на основе принципов и в рамках норм, закрепленных в политике государства. Более того, главные органы государственной власти выполняют функции политические, совмещая их с некоторыми наиболее важными функциями административного управления. Такое совмещение осуществляют, например, Администрация Президента РФ и Правительство. Полномочия руководителей субъектов Федерации также не ограничены выполнением функций административного управления. Через представителей субъекта Федерации они участвуют в законотворческой деятельности в Совете Федерации Федерального Собрания РФ, а также на уровне законодательных институтов регионов.
Об отсутствии полного разграничения политического руководства и административного управления свидетельствует тот факт, что в ряде европейских стран, как отмечает профессор Е.В. Охотский, руководящие политические и административные должности не разделены и занимают примерно равные позиции [28]. И довольно странно выглядит нередко встречающееся в литературе мнение по отношению к государственной службе: «политику следует изгонять отовсюду, где можно без нее обойтись». Государственный служащий может обойтись без устанавливаемых политикой общих принципов и подходов, «рамочных» установок и «пределов», «в которых должны действовать административно-управленческие структуры государства и их работники» [29].
Государственное управление — часть социального. Поэтому, как и социальное управление, оно, в зависимости от основы формирования целей и программ, может быть подразделено на традиционное, эмпирическое и научное [30].
Традиционное управление — основанное преимущественно на политических традициях и обычаях, включало религиозные верования.
Таково, например, монархическое правление.
Эмпирическое управление — базирующееся на использовании в основном текущего практического опыта и учете повседневных потребностей и интересов общества, а также обосновании управленческих решений здравым смыслом (стихийно складывающимися взглядами). Действие по методу проб и ошибок — типичная модель эмпирического управления.
Научное государственное управление — осуществляемое в соответствии с познанными объективными социально-экономическими и политическими закономерностями. Такой тип управления декларировался советскими политическими институтами, хотя практически он был реализован лишь частично. Элементы научного управления присущи политическим системам современных развитых зарубежных стран. Российские политические круги не говорят о научном управлении скорее всего потому, что это понятие СМИ интерпретировалось исключительно в смысле идеологизированного «коммунистического правления».
Научное управление — идеал современной практики управленческой деятельности любого цивилизованного государства, высший уровень рациональности. Но и традиционный и эмпирический виды управления также в определенных границах полезны и практически используются правящими субъектами. В реальной политической жизни функционируют сочетания различных видов управления. Чем выше уровень развития политической и общественной систем, тем значительнее место научного управления.
2. Объективная необходимость государственного управления
В чем она заключается? Ответив на данный вопрос, мы лучше поймем ограниченность (в теоретико-методологическом плане) неолиберальной концепции.
Объективная необходимость государственного управления обществом обусловлена как общими историческими и социально-политическими, так и специфическим для конкретного общества факторами. Первая группа факторов связана с природой государства, его объективным предназначением.
Согласно современным научным данным, пишет профессор А.Б. Венгеров, первичное государство возникает, чтобы организационно обеспечить функционирование производящей экономики, новые формы трудовой деятельности, которые стали условием выживания людских сообществ. Отсюда и управленческая функция, включившая первоначально информационное обслуживание общества (сбор разнообразных сведений о работах и пр.). Из общества выделился слой людей, основным занятием которого стали государственное управление, организационная деятельность. Появилось множество управленческих должностей: руководители работ, военачальники, учетчики и др. Этот слой составлял аппарат государства — раннюю бюрократию. С течением времени, отмечает проф. А.Б. Венгеров, происходившее расслоение общества на классовые группы приводило к захвату государства теми или иными группами и приспособлению его к своим интересам [31].
Социальное расслоение общества на группы и слои со свойственными им противоречивыми интересами и конфликтными взаимоотношениями («война всех против всех» по Т. Гоббсу (1588— 1679), известному английскому философу) породило потребность в политической функции государства — регулировании общественных отношений и социальных противоречий. Поскольку же государственный аппарат был захвачен привилегированными классовыми группами, функция социального регулирования в основном обеспечивала господство этих групп над остальным населением. С момента выполнения данной функции государство становится политическим институтом, равно как и в основе своей — государственное управление.
Реализация функции целенаправленного регулирования взаимоотношений между группами, «умирение» противоречий и конфликтов стало необходимым условием самого бытия общества как единого организма. Задачей государства с ранних времен его существования и развития была задача установления и поддержки некоторых единых правил поведения членов сообщества, а также организация и регулирование жизненно необходимых видов продуктивной деятельности (производственной, торговли и т.д.). На плечах государства всегда оставалась функция защиты жизненного пространства (территории) данного сообщества.
Государственное управление стало возможным благодаря централизованной власти, воплощавшей общую волю объединившихся в политический союз (государство) людей. Непосредственными носителями власти выступали группы авторитетных лиц (они же и субъекты управления), которые избирались народом или власть наследовали.
В современном обществе ни один из указанных факторов не утратил своего значения в качестве детерминанта рационального управления. Напротив, они усложнились. Сформировались многие другие объективные потребности общества, удовлетворить которые любое государство может только путем сознательной организации и управления новыми видами и формами совместной деятельности людей и общественных отношений. Достаточно сказать, что современные революции в области науки и техники, систем информации выдвинули на первый план проблему безопасности человека, сохранения для него жизненной среды. Принципиально новый, по сравнению с прошлыми эпохами, производственно-технический и экономический базис общества обусловил качественное изменение социальной структуры, характер общественного разделения труда и традиционных социальных институтов, содержание и структуру человеческих потребностей, типы общения между людьми; породил новые противоречия и конфликты. Вторая половина XX в. — это время утверждения и развития в большинстве стран мира демократических режимов, когда государства решают проблемы защиты прав и свобод человека.
Для каждой страны отмеченные и другие проблемы, решаемые государством, приобретают свою специфику, связанную с ее конкретными особенностями и характером переживаемого исторического этапа. Управление обществом не будет отвечать стоящим перед ним объективно обусловленным задачам, если правящие силы не проявят способность руководствоваться в своей деятельности знаниями общих закономерностей, а также учитывать состояние, уровень развития, традиции народа, которым они управляют, его духа и ожидания.
Словом, без глубоко обоснованной, рациональной системы государственного управления ныне не сможет обойтись ни одно сообщество. Отсюда острая потребность в профессионально подготовленных кадрах государственных служащих и политических руководителей. Политика в наше время, как писал М. Вебер в начале прошлого века, стала не одним лишь призванием, но и профессией. Причем весьма престижной.
Объективно необходимая роль рациональной системы государственного управления проявляется особенно отчетливо в переходный период, когда старая политическая система сменяется новой. Стабильность в обществе обеспечивается при условии продуманной стратегии демонтажа структур существующей системы и постепенной, логически последовательной замены их структурами более совершенными. Полное отрицание советской системы государственного управления (какой бы авторитарной она ни была), как известно, обошлось нашей стране многими существенными потерями — экономическими, политическими, социальными, духовными и пр.
Идея необходимости рационального государственного управления утверждалась в острой полемике с противоположной: признанием единственно эффективными механизмами спонтанного регулирования социально-политических и экономических процессов. Одной из таких была и является либеральная концепция.
Негативное отношение к идее рационального управления обществом высказывалось в прошлом некоторыми теоретиками социалистического движения и анархизма. Гносеологические (теоретико-познавательные) источники либеральной и других концепций — в абсолютизации механизмов спонтанной саморегуляции общественных систем, а также в отождествлении объективных закономерностей с одной из форм их проявления и действия — стихийностью. Логика мысли сторонников спонтанной саморегуляции такова: естественный ход событий, подчиненный объективным законам, не нуждается в управлении, в сознательном вмешательстве в него государственной власти либо каких-либо политических партий; он совершается сам по себе. Отсюда вывод теоретиков анархизма: о ненужности государства как такового, о превращении его в новую форму угнетения людей, равно как и науки, если она становится духовной основой государственного управления.
Так, известный русский теоретик-анархист М.А. Бакунин, полемизируя с социалистами, отстаивающими мысль о научном управлении государством, писал: «так как теория, наука составляют достояние немногих, то эти немногие должны быть руководителями общественной жизни... Но если наука должна предписывать законы жизни, то огромное большинство, миллионы людей должны быть управляемы одной или двумя сотнями ученых, в сущности даже гораздо меньшим числом...». И далее: «Управление жизни наукою не могло бы иметь другого результата, кроме оглупления всего человечества» [32].
Отрицание роли научных идей в политике (а стало быть, и в государственном управлении) философски объясняли некоторые деятели западной социал-демократии. В свое время Р. Люксембург отмечала, что бессознательное в историческом движении «идет впереди сознательного. Логика исторического процесса идет впереди субъективной логики исторических существ, которые участвуют в историческом процессе. Для руководящих органов социалистической партии характерна тенденция играть консервативную роль» [33].
В постсоветский период в правительственных кругах нашего государства господствовала, по крайней мере, до августовского (1998 г.) экономического кризиса, стратегическая установка на спонтанную рыночную регуляцию всего процесса общественной жизни в стране. Однако кризисная ситуация объективно потребовала усиления роли государства.
Рыночная экономика порождает стихийные, зачастую разрушительные, процессы, предупредить или смягчить негативное влияние которых может только государство. В условиях господства рынка необходимо сбалансированное рыночное и государственное регулирование прежде всего экономики; важно ограничение негативных последствий действий так называемых естественных монополий (энергетических и др.). Следует учитывать и опасность для общества возрастающего влияния экономической власти, проистекающей из частной собственности, власти, стимулирующей социальный антагонизм. В новой социально-экономической обстановке на первый план выдвигается роль государственной политики, выражающей противоречивые группы интересов и обеспечивающей их защиту и баланс, упреждающий формирование социальных конфликтов.
Современная мировая практика накопила множество фактов, подтверждающих, что государства, политические партии, иные общественные организации, наконец, любые организованные сообщества не являются только объектами воздействия на них естественных законов. Напротив, объективные законы, будь то экономические или политические, — это законы общественных действий людей. Экономический или политический процесс во всех случаях — результат такой деятельности. Другой вопрос, каков характер этой деятельности: целенаправленная, рациональная она или стихийная, т.е. основанная на иррациональной мотивации, в виде обычаев, традиций, верований и стереотипов обыденного сознания. И еще: каково их соотношение в деятельности государства и других общественных сил.
Признание объективной необходимости рационального управления обществом не противоречит естественной ограниченности рациональности. Круг проблем, охватываемый государственным разумом, никогда не исчерпывает множество вопросов, вытекающих из реальных или возможных проблемных ситуаций, заключенных в бытии той или иной социальной системы. Мыслящий субъект постоянно стремится расширить его. Однако нельзя объять необъятное. Поле для действия стихийных сил остается, а стало быть сохраняется и необходимость для использования в государственной деятельности механизмов спонтанной регуляции. Таковые, при соответствующих их природе методах реализации, не подрывают сознательную направленность общественных процессов, а дополняют ее движущими стимулами и служат фактором, корректирующим адекватность принимаемых решений и результатов их исполнения. К примеру, критерием экономических акций государства может служить эффективность конкуренции — основного механизма спонтанной регуляции экономической деятельности малого и среднего бизнеса.
Итак, государственное управление — это объективно необходимая, обусловленная природой государства и спецификой человеческого общества как единого организма, целенаправленная, рациональная деятельность, обеспечивающая бытие и прогресс общества. Она не исключает стихийную саморегуляцию общественного организма. Последняя в жизнедеятельности политической системы не играет ведущей роли, хотя и ограничивает сферу рационального воздействия на общественные процессы.
Литература
1. Энгельс Ф. Анти-Дюринг// Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 20. С. 104.
2. Философский энциклопедический словарь. — М., 1983. С. 173.
3. Алехин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Административное право Российской Федерации. — М.: Зерцало, 1997. С. 16.
4. Там же.
5.Там же. С. 16-19.
6.Атаманчук Г.В. Теория государственного управления: Курс лекций. — М.: Юрид. лит-ра, 1997. С. 38; Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. Курс лекций. Изд. 2-е, до-полн. — М.: Омега-Л, 2004. С. 50;
7.Курашвили Б.Н. Очерк теории государственного управления. — М.: Наука, 1987. С. 99.
8. Советское административное право / Под ред. проф. В.М. Манохина. — М.: Юрид. лит-ра, 1977. С. 13.
9. Советское административное право / Отв. ред. проф. П.Т. Василенков. — М.: Юрид. лит-ра, 1990.
10.Радченко А.И. Основы государственного и муниципального управления: системный подход: Учебник. — 2-е изд., перераб. и доп. — Ростов н/Д.: Ростиздат, 2001. С. 26.
11. Зеркин Д.П., Игнатов В.Г. Основы теории государственного управления: Курс лекций. — Ростов н/Д.: Изд. центр «МарТ», 2000. С. 49.
12.Там же.
13.Глазунова Н.И. Система государственного управления: Учебник. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. С. 13.
14.Государственное управление: основы теории и организации: Учебник / Под ред. В.А. Козбаненко. — М.: Статут, 2000. С. 64.
15.Глазунова Н.И. Система государственного управления: Учебник. С. 13-14.
16.Там же. С. 14.
17.Философский энциклопедический словарь. С. 104.
18.Зеркин Д.П. Основы конфликтологии. — Ростов н/Д: Феникс, 1998. С. 164.
19.Мысин С. Теория социального управления. С. 164.
20.Там же. С. 18.
21.Шабров О.Ф. Политическое управление. — М., 1997. С. 28.
22.Хетце И. Теория управления кадрами в рыночной экономике. Европа-пресс, 1997. С. 47-48.
23.Глазунова Н.И. Система государственного управления: Учебник. С. 396; Глазунова Н.И. Государственное управление: Учебник для вузов. — М., 2004. С. 145;
24.Там же. С. 395-396, 401.
25.Бахрах Д.Н. Административное право: Учебник. — М.: БЕК, 1996.
26.Тихомиров Ю.А. Курс административного права и процесса. — М., 1998.
27.Российская газета. 2004. 11 февр.
28.Охотский Е.В. Административно-политическая элита и государственная служба в системе властных отношений // Государственная служба: теория и организация. — Ростов н/Д: Феникс, 1998. С. 141.
29.Там же. С. 163.
30.Мысин Я. Теория социального управления. С. 9.
31.Венгеров А.Б. Теория государства и права. — М., 1998. С. 41.
32.Бакунин М.А. Государство и анархия. Пб.—М., 1922. С. 188-190.
33.Luxemburg R. The Russian revolution and Leninism are Marxism. Sm.: 1961. P. 70.
Глава 4. Отношения в системе государственного управления
1. Субъект и объект государственного управления
Прежде всего нужно сформулировать категории субъектов и объекта государственного управления. Это один из важных методологических вопросов анализируемой теории. Его решение — ключ к пониманию субъектно-объектных отношений в государственном управлении и обеспечения демократического характера последнего.
Казалось бы, в этом вопросе нет проблемы: субъектом управления является государство, а объектом — общество. Но что дает нам такое умозаключение? Во-первых, оно некорректно. Как отмечалось выше, понятие государства в данном контексте требует уточнения: имеется ли в виду государство как политический союз людей или речь идет о государстве как политико-правовом институте. Только в последнем понимании государство выступает субъектом управления.
Извечен вопрос, поставленный еще древнегреческим философом Платоном: «Кто должен управлять?». Сторонники народовластия (демократии) считают, что управлять должен народ. Приверженцы элитарной демократии видят субъектом управления подготовленную для этой деятельности элиту, уполномоченную народом. Защитники авторитарного режима отстаивают право избранных личностей — вождей, лидеров на управление государством и обществом. Теоретик современной либеральной демократии английский философ К. Поппер по существу снимает данный вопрос, считая его незначительным по сравнению с другим вопросом: «Как осуществляется власть?». Автор обосновывает идею, что управление осуществляется безличностно-юридическими оформленными политическими институтами [1]. На наш взгляд, важны оба вопроса.
Понятие субъекта в теории государственного управления неоднозначно. Следует разграничивать понятия субъект политики, субъект государственного управления, субъект должностной функции. Критерии разграничения: отношение к государственной власти и характер участия в реализации функций управления.
Субъект политики — тот, кто является источником государственной власти и непосредственно или через представителей (органы законодательной государственной власти и местного самоуправления) осуществляет свою власть, участвуя в управлении государством и обществом. Это — народ, составляющие его большие социальные группы, их части (слои, элитные группы, трудовые коллективы, общественно-политические организации (партии) и другие общественные объединения), непосредственно или через своих представителей участвующие в принятии решений по важнейшим политическим вопросам. Выборы персоналиев властных структур и референдумы — основные процедуры принятия таких решений.
Субъект государственного управления — это органы государственной власти, наделенные конституционными полномочиями осуществлять власть и непосредственное управление общественными процессами и собственной деятельностью государства. Опираясь на волю общества, выраженную в силе власти и закона, они разрабатывают и принимают государственные решения различных уровней, организуют их исполнение и контроль. В составе субъекта государственного управления — общественно-политические организации и объединения, которые участвуют в разработке прогнозов и проектов решений, политических программ, реализуемых государственными институтами. Субъекты государственного управления — институты политического руководства и административного управления, различающиеся по многим основаниям.
1. По видам государственной власти. Это субъекты законодательной, исполнительной и судебной власти. Каждый из них выполняет определенную функцию в системе управления. Разработка и принятие представительными органами законов — одна из основных функций в системе государственного управления. Закон — инструмент государственной власти и формальный регулятор общественной деятельности и взаимоотношений членов общества между собой и государством. Действенность законов — в их исполнении. Субъект исполнительной власти сочетает властную функцию с управленческим действием. Например, правительство призвано исполнять законы, а также осуществлять планирование конкретных, общественно значимых видов деятельности, решений, организацию их выполнения и контроль. Наряду с властными структурами в него входит совокупность общегосударственных органов политического руководства и административного управления хозяйственной деятельностью, народным образованием, наукой, здравоохранением, культурой и др. Субъект судебной власти осуществляет функцию правосудия посредством судопроизводства, которое является неотъемлемым элементом управленческого процесса.
2. По уровням организации власти и управления — это центральные, региональные и местные органы власти и управления, взаимоотношения между которыми определяются установленным разделением сфер деятельности (объектов управления) и полномочий, т.е. прав и обязанностей государственных органов в отношении осуществления тех или иных властных и управленческих действий.
3. По сферам деятельности — это субъекты трех отмеченных уровней, осуществляющие управление политическими отношениями, экономикой, социальной сферой, культурной жизнью, средствами массовой информации, военной деятельностью, международными делами и др.
4. По характеру, целям и средствам воздействия на управляемых: политическое руководство, административно-государственное, экономическое и другие виды управления.
5. По характеру институционализации: формально институционализированные государственные органы и действующие под их эгидой общественные институты, легитимность которых закрепляется практическим опытом, традицией, идеологическим фактором и общественным мнением. К числу таких относятся: партийные фракции в коллективных органах власти, организуемые при органах законодательной и исполнительной власти, консультационные и экспертные организации и др.
6. По составу: субъекты коллективные (например, органы законодательной власти) и индивидуальные (руководящие лица).
Деятельность субъектов государственного управления характеризуется рядом формальных признаков: а) регламентируется законом, осуществляется официально разрешенными методами; б) в рамках компетенции (права на определенный вид деятельности) является специализированной, соответствующей характеру выполняемых функций; в) субъекты ответственны перед государством, суверенны, независимы от давления каких-либо внешних сил. Вне формальных правил функционируют лоббистские группы (обычно при законодательных институтах), представляющие интересы крупного финансово-промышленного капитала, военно-промышленного комплекса, криминального капитала, политической элиты. Известно, что в США, например, помимо конституционных органов власти и управления существуют три главных неконституционных института власти: политический, экономический и военный. Кто стоит во главе этих институтов, тот занимает командно-стратегические посты в системе государственной власти. Российские олигархи также нацелены на овладение (официальное или неофициальное) рычагами государственной власти как средством, которое должно обеспечить в их интересах эффективность государственной власти и ускорение капитализации страны.
Особо следует отметить роль «партии» телевидения и радио, периодической печати, в целом средств массовой информации. Закрытые элитные группы владельцев этих средств и обслуживающих их журналистов, функционирующие по своим правилам игры, стали не эфемерной, а реальной силой, претендующей на место субъекта управления государством и обществом.
Субъект должностных функций — это лица, замещающие государственную должность государственной службы, а также политические руководители, должностные лица административного управления. Они наделены конкретными полномочиями государства и индивидуально ответственны за подготовку, принятие и исполнение государственных решений. Разграничение органов государственной власти и их «должностных лиц» как субъектов отмечено в Конституции РФ. Должностные лица, с одной стороны, включаются в единый субъект государственного управления, а с другой — выделяются в отдельный, индивидуальный субъект, поскольку его функция специфична. В ней сочетаются властные и управленческие полномочия — часть полномочий государственного органа и акцентируется аспект личного профессионализма и индивидуальной ответственности за результаты деятельности коллективного органа.
Охарактеризованные различия субъекта политики, субъекта государственного управления и субъекта должностной функции относительны: их роли в системе государственной власти и управления в отдельных аспектах пересекаются или даже совпадают. Тем не менее, в большей части они специфичны, что необходимо учитывать при анализе их взаимодействия. Государственные органы управления могут успешно выполнять свои функции при условии адекватного выражения интересов субъектов политики — народных масс, социальных групп, в целом сообщества, от имени которого они действуют. Государственные аппараты эффективно работают, пока постоянно следят за тем, как воспринимается их деятельность массами, насколько ожидания и установки управляемых совпадают с целями и задачами управляющих. Они добиваются запланированных результатов, если опираются на поддержку массовых субъектов политики, воспринимают и используют их разум и опыт, реализуют при выработке управленческих решений рациональные предложения масс. В свою очередь гарантией реализации любым должностным лицом своей функции является, с одной стороны, действие в рамках полномочий, которые определены ему государственным органом, а с другой — служение интересам общества, государства. Реальное осуществление этих требований в их сочетании — непростая проблема. Не всегда и не всякому удается ее решить. Бюрократизм являет собою решение с явным перекосом в пользу корпоративного интереса управленческой организации, поставленного выше общего интереса государства, а значит, и народа как массового субъекта политики.
Другая крайность — сведение субъекта государственного управления к принимающему решения массовому субъекту политики, отождествление первого со вторым. В таком случае теряется относительная самостоятельность государственного субъекта, суверенность его действий, а стало быть, ответственность перед государством и народом. Конформистская безответственность — характерная черта коллективного субъекта, принимающего решения, но вместе с миллионами других граждан: рабочих, крестьян, учителей, врачей, научных сотрудников, лаборантов и т.д.
Субъект государственного управления, будь то коллективно-групповой (государственный орган, институт) или индивидуальный (должностное лицо, лидер), становится таковым, когда обретает совокупность качеств, соответствующих его определению. Их можно объединить в следующие группы: развитое политическое и правовое сознание и самосознание; знание теории и практики государственного управления и современного менеджмента; организационная способность; социальная активность и управленческий государственный опыт. В совокупности все перечисленные качества являются профессиональными (в широком смысле этого понятия).
Для субъекта государственного управления основополагающее значение имеет осознание национально-государственных интересов и целей, определяющих направленность и содержание управленческого процесса, а также возможных политических и иных его последствий для общества. Чтобы деятельность была рациональной, она должна быть обеспечена в правовом плане, соответствовать нормам, установленным законом. Правовая культура субъекта управления — необходимый аспект его подготовленности к профессиональной деятельности. Для российского чиновничества это означает требование сформировать в себе принципиально новое отношение к закону, преодолев историческую традицию правового нигилизма. Бессмысленно говорить о научной обоснованности государственного управления без овладения кадрами государственной службы современными знаниями его теории и практики и умения эти знания применять в своей деятельности. Эмпирический опыт и здравый рассудок при всей их полезности могут быть основой только традиционного типа управления, но не рационального. Эффективный субъект государственного управления — это лидер, коллективный и индивидуальный, способный влиять на управляемых не столько силой власти, сколько своим авторитетом и активностью, общественной важностью и притягательностью целей и задач, решаемых данным государственным органом. Наконец, управляющее действие не может претендовать на рациональность, если оно не ориентировано на понимание управляемыми его цели и программы.
Интенсивность формирования отмеченных качеств субъекта государственного управления, равно как и его деловая активность, детерминируется комплексом стимулов, официально признанных и общественных.
М. Вебер считал стимулами действия государственного аппарата материальный интерес и социальный почет. Думается, что мотивационная основа деятельности российских управленцев-государственников, личностей, которым народ поручил вести государственный корабль по конфликтному социальному океану к берегам безопасности и благополучия, гораздо богаче, чем представлял ее немецкий социолог-классик. В идеале она не может не включать общественный интерес, соединенный с личным, многообразные политико-социальные мотивы гражданской активности, присущие рядовым и элитным слоям населения.
Объект государственного управления — проблема, также требующая серьезного осмысления. Один из главных дискуссионных вопросов — это вопрос о границах объекта. Иначе говоря, о том, как широко простирается управляющее воздействие государства на общество, где проходит граница политического пространства, отделяющая его от социального, и есть ли она вообще? С позиции классического либерализма, рассмотренной нами выше, такая граница есть. И она отчерчивает государственно-политическую сферу от социальной, экономической, культурологической, духовной сфер, от совокупности неполитических, негосударственных объединений граждан. С развитием демократии, утверждают либералы, негосударственная сфера общества расширяется и сокращается пространство прямого воздействия государства на жизнедеятельность людей. Парадигма общество — политическое государство — одна из противоположных методологий, объясняющих взаимоотношение современного государства и общества. Уже говорилось, что неолиберальная концепция была положена в основу новой политической системы России. К сожалению, без соответствующего ее критического осмысления применительно к условиям нашей страны.
Таким образом, с точки зрения классической методологии либерализма, объект государственного управления ограничивается политико-правовой сферой общественной жизни.
Другая линия развития понимания объекта воздействия государства на общество — концепция этатизма, т.е. огосударствления всех сторон жизни. В завершенном виде она была реализована в тоталитаристских режимах. Тотальный — всеобщий охват социума государственным контролем; примат политической и административной деятельности над всеми сферами жизнедеятельности общества; поглощение гражданского общества как саморегулирующейся системы субъектом государственного управления; искусственное снятие проблемы соотношения государства и общества — такова суть этатизма.
Современное развитие политической мысли и практики настойчиво выдвигает идею возрастания регулирующего и управляющего воздействия государства на общезначимые функции социальных субъектов, включая экономическую и социокультурную. Но в России эта идея достаточно отчетливо проявилась после известного августовского (1998 г.) экономического кризиса. Она в известной мере естественна для нашей страны, где государство всегда доминировало над обществом, а общество в свою очередь жестко не противостояло государству.
Представляется некорректной позиция некоторых теоретиков, согласно которой противоречие между государством и обществом в России извечно является чуть ли не абсолютной противоположностью. Так, М. Бородкин пишет: «В России народ и государство всегда противоположны друг другу. Государство преследовало, требовало, контролировало, отбирало, сажало в тюрьмы и концлагеря, расстреливало, запрещало и т.п. Оно производило действия, направленные против большинства народа. Дело народа было спасаться от него, обманывать, сопротивляться, красть и т.д. Поэтому, когда мы говорим «государство», то под этим термином понимаем иной феномен, чем тот, который имеет в виду, ощущает средний современный европеец или американец. В нас живет образ государства как машины властвования, отдельной и независимой от людей [2].
Известно, что Т. Гоббс списал образ государства, которое он уподобляет мифическому чудовищу Левиафану, не с российского, а с европейского реального феномена. Первыми в истории вышли на кровавую борьбу с государством парижские рабочие, а не российские, С другой стороны, российский народ, объединившийся в единый политический союз, защищал страну и свое государство в Отечественную войну 1812 г. и в Великую Отечественную войну 1941-1945 гг.
Объективный подход к проблеме «политическое государство — общество» не позволяет прочертить какую-то линию, жестко разделяющую деятельность институтов государства и функционирование общества. Организационно-управленческое воздействие первых проникает во все структурные элементы социума, не охватывая между тем каждый из них полностью. Оно регулирует лишь определенные стороны, хотя и имеющие значимость с точки зрения всеобщих интересов, т.е. государственных. Сфера этих интересов определяется самим государством, прежде всего господствующими классами. Последние всегда стремятся представить свой интерес в качестве общего. Однако государство не может игнорировать и то, в чем заинтересовано все сообщество или его большинство. Единство значимого для общества в целом и для господствующих классов составляет критерий выделения объекта государственного управления из социальной системы. В соответствии с этим критерием условная граница между объектом государственного управления и общественными явлениями, не включенными в его орбиту, проходит между различными функциями, ролями и сторонами деятельности и взаимосвязей общественных групп, организаций и других социальных агентов, их потребностями и интересами, целями и установками, между внешним взаимодействием организаций социальных субъектов со средой и внутренними механизмами саморегуляции (самоуправления).
Следует подчеркнуть, что границы объекта государственного управления в различных сферах общественной жизни различны. В экономической сфере они отделяют государственный сектор от частного, макроэкономику от экономической деятельности и экономических отношений, осуществляющихся в отдельных коллективах и организациях, где доминируют внутренние механизмы саморегуляции. В социальной сфере объектом государственного управления являются деятельность и социальные отношения, наиболее значимые в плане обеспечения нормальной жизни, а также условия воспроизводства человеческого фактора. В сфере культуры, образования и духовной жизни — свои границы управляющего воздействия государственных органов. Здесь речь идет о разработке и реализации соответствующими государственными институтами общих политических концепций и создании систем деятельности в каждой из указанных областей. Например, возможности государственного управления в области научной деятельности ограничиваются главным образом решением организационных проблем общегосударственного характера: наука является в современном обществе социальным институтом. Социальный (государственный) заказ как форма управления наукой определяет те или иные направления организации деятельности научных учреждений, но не содержательную (исследовательскую) сторону.
Специфичен объект государственной регуляции народного образования. В любой цивилизованной стране государство не оставляет на произвол судьбы сферу народного образования, но и не командует работой каждого педагога и учебного заведения. Эксперимент ухода государства из этой сферы, проделанный либеральными демократами в современной России, не улучшил, а скорее ухудшил положение в народном образовании, хотя и содержал некоторые положительные элементы. В.М. Филиппов - министр образования РФ (с сентября 1998 г. по апрель 2004 г.) в своих выступлениях неоднократно отмечал, что по отношению к школе должно быть государственно-общественное регулирование. Роль министерства — действовать не путем административных запретов, что подвергается критике учительскими коллективами, общественностью, а использовать работу федеральных общественных советов по отдельным отраслям знания, способствовать организации научной экспертизы в них программ, учебников, пособий, печатающихся в различных регионах страны. Состыковать учебные программы таким образом, чтобы выпускники разных школ из разных мест России, обучаясь по разным учебникам, имели определенный запас знаний и могли без затруднений продолжить учебу в высших и средних специальных учебных заведениях.
Специфичен объект государственного регулирования деятельности учреждений здравоохранения, литературы и искусства.
Из сказанного следует, что объект государственного управления не менее сложен, чем субъект. Хотя оба понятия относятся к общественной деятельности и отношениям человеческих коллективов и личностей, однако содержание и их структуры различны. Структурными элементами управляемого объекта являются материально-производственная деятельность общественных субъектов, связанные с нею общественные отношения, различные общественно значимые виды социальных работ, политической, культурологической и других форм деятельности, жизненно важных для существования и развития общества. В отличие от субъекта управления структурные элементы объекта характеризуются взаимосвязями, детерминируемыми не управляющей системой, а закономерностями общественной системы, в частности разделением общественного труда, социально-классовой структурой, объективными потребностями людей, их общими и классовыми интересами, системой ценностей, состоянием общественного сознания, наконец внешней средой обитания человеческих сообществ.
Понятие «объект управления» не должно вводить в заблуждение управляющего субъекта относительно возможностей его социальной активности. Коль скоро речь идет о человеческих коллективах и индивидах, обладающих способностью осознанно относиться к любому (в том числе внешнему) управляющему воздействию, следует принимать во внимание совокупность факторов сознательной активности управляемого объекта, с необходимостью проявляющихся в обратной связи с управляющим субъектом: уровня знаний, ценностей, целей, ориентации, мотиваций и т.д.
Вышеизложенное показывает, сколь методологически важен анализ особенностей объекта государственного управления: понимание границ управляющего воздействия на общество; выделение конкретного объекта в той или иной сфере деятельности общества; выявление его особенностей, включая возможности сознательной активности, мотивацию его поведения. Он будет более глубоким, если вести его в плане субъектно-объектных отношений.
2. Субъектно-объектные отношения в государственном управлении
Управленческий процесс в сущности своей есть активный процесс субъектно-объектных отношений. Его объяснение имеет познавательное, теоретическое и практическое значение: раскрывает существенные моменты механизма управленческой деятельности и управленческих отношений, помогает сформулировать и реализовать работающие критерии определения соответствия управленческой стратегии и тактики государственного субъекта и их реальной результативности.
Анализ субъектно-объектных отношений в государственном управлении включает рассмотрение, по крайней мере, двух методологических вопросов:
а) о характере взаимодействия субъекта и объекта управления;
б) о способах выявления и оценки результативности управленческого действия.
Постановка первого вопроса противопоставляется пониманию управления как однонаправленного активного воздействия субъекта на объект, исключающего определенное соучастие объекта (социальных групп, организаций, трудовых коллективов, индивидов) в этом действии, в виде конкретных акций обратного управленческого воздействия на орган управления. Иначе говоря, представлению о понятиях субъекта и объекта как абсолютных противоположностях, не допускающему перехода в определенном аспекте субъекта в объект и обратно. На политическом языке это означает исключение возможности соучастия общественных субъектов (граждан, их объединений и др.) в управлении обществом и государством. Такая позиция, как известно, присуща авторитарному субъекту, в том числе выступающему в виде коллективного правящего института (например, правящей партии). Она теоретически несостоятельна и практически опасна, антидемократична. Не менее ошибочна и опасна и противоположная точка зрения. Поставить знак равенства между субъектом государственного управления и массовым управляемым общественным объектом означало бы растворить первый в общественных организациях и институтах, проигнорировать профессиональный характер управленческого труда, поставить под сомнение вообще необходимость органов государственного управления обществом. Чтобы избежать подобных допущений, нужно, конечно, акцентировать разграничение понятий субъекта и объекта государственного управления, управляющего и управляемого, властвующего и подвластного. Особенно в условиях современной России, где государственная власть и управление настолько диффузны и децентрализованы, настолько «приватизированы» различными ведомствами, региональными правителями и местными администраторами, что реальностью на рубеже веков был правовой беспредел и отсутствие общего государственного порядка в стране.
Пониманию сложного, многоаспектного и диалектически противоречивого взаимодействия субъекта и объекта государственного управления и может помочь обращение к философским категориям «объективация субъекта» и «субъективация объекта». В теоретико-познавательном (гносеологическом) толковании объективация субъекта означает отражение мышлением объективных явлений: иначе сказать, существование мысли в виде объективной истины. Субъективация же объекта — это выражение его в форме человеческой (субъективной) мысли: понятия, идеи. В контексте практики под объективацией субъекта понимают воплощение человеческих (субъективных) знаний, идей в реальную деятельность человека и в предметные ее результаты.
Государственное управление, как и любой другой вид социального, представляет собою процесс практической деятельности людей, неразрывно связанной с познанием управляемого объекта. В этом проявляется специфика целеполагания как основного элемента управленческой деятельности. Следовательно, в абстрактно-теоретическом определении государственное управление представляет собою единство двух моментов: объективации управляющего субъекта и противоположного — субъективации управляемого объекта.
Объективация управляющего субъекта происходит двояко: как познающего субъекта и как воплощающего свою деятельность в реальных результатах воздействия на общество. Она измеряется показателями деятельности на «выходе» системы. В процессе управления подвергаются определенному изменению как сам субъект, так и, конечно, управляемый объект. Не остается неизменной и внешняя среда (конкретная социально-политическая и другие ситуации). Поэтому необходимым условием рациональной управленческой деятельности является постоянный анализ поведения объекта, его реакции на вызовы управляющей системы и изменения среды, на взаимодействия акций рационального управления и внутренних механизмов саморегуляции.
Для субъекта важна информация о соответствии своих целей и намерений интересам и ожиданиям управляемых, о позитивном или негативном отношении к программам и практическим действиям государственных органов, о характере восприятия тех или иных методов управления. Ее наличие позволяет вносить соответствующие коррективы в намеченную программу, акцентировать внимание на тех моментах действия, которые вызывают у объекта реакцию отторжения или непонимание целей субъекта.
Объектом управления могут быть и государственные органы. Но и в такой ситуации модель поведения субъекта принципиально не изменится. Иными будут лишь цели, программы и методы управленческих действий, а соответственно и объективные результаты этих действий, равно как и обратная субъективная связь (реакция объекта).
Проблема объективации субъекта в смысле предметного воплощения результатов его деятельности по сути сводится к анализу эффективности государственного управления главным образом в плане осуществления фундаментальных целей управления: сохранения политической системы, обеспечения единства и др.
Значение фактора объективации субъекта государственного управления подробно рассмотрено профессором Г.В. Атаманчуком в названной выше работе.
Субъективация объекта государственного управления находит проявление в разнообразных формах его социальной активности, в обретении им некоторых элементов субъекта, без изменения своего статуса и основной роли управляемого объекта. О чем идет речь? Прежде всего о соучастии в управленческой деятельности государственного субъекта в виде поддержки последнего и сотрудничества в достижении общих целей, предложения новаций, зарождающихся в массах и общественных институтах, в форме совместного с государственными органами обсуждения проектов экономического и социального развития и т.д. Отмеченные и другие позитивные по отношению к субъекту проявления активности объекта не исчерпывают всей совокупности его управленческих действий. Субъективация объекта выражается также в негативных формах поведения. В частности, в акциях самоотчуждения определенных групп от властно-управленческих институтов или даже в оппозиционной деятельности, блокирующей исполнение правительственных решений. Понятие «народная оппозиция» стало в наше время достаточно распространенным. Общенародные акции протеста в конце XX - начале XXI в. нередко сотрясают политическую жизнь нашей страны.
Противоречия и конфликты в субъектно-объектных отношениях государственного управления вполне закономерны. Они порождаются как объективными, так и субъективными причинами, в том числе связаны с процессами объективации управляющего субъекта и субъективацией управляемого объекта. Скажем, воплощение интересов общественных групп в проектах и планах субъекта всегда ограничено и уровнем их понимания, и ресурсами, необходимыми для удовлетворения. Любое государственное решение, тем более если оно принимается в кризисной ситуации, не может в полной мере соответствовать социальным ожиданиям тех или иных слоев населения, а стало быть, и политическим позициям представляющих их организаций.
Государственные интересы, как интересы целого, даже будучи выражены в управленческих решениях, не могут полностью совпадать с интересами отдельных частей (слоев) общества. Между общим и отдельным неизбежны противоречия, что и вызывает необходимость использования управляющим субъектом правовых (обязательных для исполнения) норм. Различие интересов — не единственная причина противоречий. Объективируясь, субъект приобретает некоторое консервативное состояние, тогда как общественный организм (объект) под влиянием внутренних механизмов саморегуляции и воздействия внешней среды претерпевает изменения. К примеру, правовые нормы как элементы объективной стороны управления выполняют свою функцию только в том случае, если они стабильны для данной системы. Постоянство, консервативность норм как формы регулирования общественных отношений и динамичность последних — противоположности, внутренне присущие субъектно-объектным отношениям. Источник противоречий заключается также в процессе субъективации управляемого объекта, проявляющемся, как уже отмечалось, в оппозиционной форме поведения. Нестыковка механизмов самоуправления с неадекватно понятыми требованиями рациональной системы управления; невосприятие административно-принудительных методов воздействия; представление управляемых о легитимности управляющего субъекта, не соответствующее статусу последнего; ощущение неполноты артикуляции интересов объекта в государственных программах — эти и другие явления вызывают коллизии во взаимоотношениях управляющих государственных структур и общественных институтов, коллективов граждан.
Стратегия органов государственного управления ориентирована на интеграцию своих действий с активностью различных слоев общества, в частности с гражданскими институтами; на использование в системе управления потенциала общественного самоуправления. Этой цели может служить весь арсенал политической демократии. Его включение в субъектно-объектные отношения обеспечивает оптимально возможную в каждой ситуации реализацию участником управленческого процесса своих функций.
3. Государственное управление как система
Государственное управление функционирует не в виде отдельных элементов, а как единое, взаимосвязанное их образование, т.е. системно. Рассмотренные понятия субъекта управления, управляемого объекта и субъектно-объектных отношений характеризуют его основные структуры. Они воспроизводятся в любом процессе управления в различных модификациях их взаимодействия. Анализ процесса позволяет выявить другие составляющие системы и определить ее понятие. Рациональная природа государственного управления предполагает наличие в его структуре идей, знания как базового элемента, определяющего цели субъекта. Целеполагание — отправной момент в управлении. Но субъект реализует себя в конечном итоге в целедостижении, т.е. в практическом действии по осуществлению всех своих функций при помощи создаваемых им структур (организаций). Это и образует процесс управляющего воздействия на управляемый объект, придания ему организованности и определенной направленности. Каждая из функций составляет аспект воздействия структур и управленческого отношения. Идеи, цели — духовные скрепы системы. Другая же ее база — нормы, главным образом правовые, воплощающие властную волю государства.
Таким образом, система государственного управления описывается следующими понятиями, характеризующими ее элементы: государственный субъект, идеи (идеология), знания, цели, функции, структуры, взаимосвязи, нормы, управляющее действие, управленческое отношение, управляемый объект.
Интегративное, объединяющее понятие — система государственного управления. Это — обозначение целостной, организованной на единой правовой основе совокупности институтов, функций, отношений, процессов, принципов и методов управления обществом. Как и любая другая, система государственного управления обладает следующими универсальными свойствами:
— состоит из элементов, находящихся во взаимодействии и взаимозависимости;
— целостность, образуемая совокупностью элементов, не сводима к их сумме;
— элементы, интегрируемые в целостность, обретают системные качественные признаки, не тождественные индивидуальным;
— отношения взаимодействия и взаимозависимости элементов закономерны и подчиняются правилам, не зависящим от каждого из них;
— система как целое реагирует на влияние среды и импульсы, исходящие изнутри ее, от составляющих элементов.
Универсальные свойства системы государственного управления
—отправной пункт в изучении ее специфических признаков. Система государственного управления, в отличие от социального, частью которого она является, формируется и функционирует целерационально: на основе определенных идей и ценностей (монархических, либерально-демократических, социалистических, религиозных и др.). В зависимости от того, на какой идейно-ценностной базе строится политическая система в данном обществе, таково и духовное основание системы государственного управления как ее подсистемы. Каков тип политической системы и ее ядра
—государства, таков и характер государственного управления. Специфика системы государственного управления заключается также в том, что реализация ее функций, наряду с решением собственно управленческих задач, служит обеспечению государственной политической власти, поскольку именно она обладает монополией на издание законов и применение легитимного принуждения, без чего государственное управление невозможно.
Теоретический анализ структурных элементов системы и ее организации выявляет ее внутренние качественные характеристики и системные признаки элементов. Доминирующий в системе властвующий субъект — движущая сила управленческого процесса, его определяющий фактор. Он представлен под субъектами, различающимися по рассмотренным выше основаниям. Здесь следует отметить, что структура субъекта и тип взаимосвязи между подсубъектами воспроизводят организацию государственной власти. Высшему институту власти соответствует центральный управляющий орган; функциональное разделение государственной власти на ее ветви воспроизводится в соответствующих центрах принятия управленческих решений на высшем и региональном уровнях; иерархическое структурирование субъекта управления дублирует иерархическое строение власти и т.п.
Разграничение управленческих субъектов по уровням относительно, ибо они существуют и функционируют в единой связи и вне ее теряют свои роли и статусы.
Функциональные взаимосвязи органов управления подразделяются на вертикальные и горизонтальные. Первые означают следование одних органов предписаниям других: местных органов управления — региональным органам управления, а региональных — правительству страны. Это — связи соподчинения. Централизация государственного управления всегда базируется на вертикальных связях. Вторые (горизонтальные связи) характеризуются взаимодействием управленческих органов как относительно самостоятельных и равноправных по своим полномочиям в рамках установленных законом предметов ведения. Это — связи координации и сотрудничества. Вертикальные связи имеют тенденцию к доминированию над горизонтальными, поскольку государственной власти присуще свойство централизации и концентрации. Такая тенденция встречает противодействие со стороны территориальных органов управления. Системные взаимосвязи субъектов управления динамичны; они реализуются и воспроизводятся в виде живых противоречий, регулируемых и разрешаемых в рамках конституционных норм путем усовершенствования схемы распределения полномочий и предметов ведения.
Управленческие статусы субъектов различных уровней связаны с распределением политического пространства. Субъект высшего уровня функционирует в границах всего политического пространства. Региональный субъект действует в пределах региона; субъект местного самоуправления — в административно очерченных рамках местного сообщества. Дифференциация субъектов (органов управления) проявляется в структуре управляемого объекта. Сфера жизнедеятельности общества, связанная с общенациональными интересами, — объект центральных органов управления; сфера трудовой, политической и социокультурной деятельности, составляющая круг специфических, региональных интересов, — объект заботы региональных институтов; то, что связано исключительно с удовлетворением интересов местного сообщества, — предмет ведения органов самоуправления.
Системные взаимосвязи органов управления, поскольку они иерархизированы, образуют структуру в виде пирамиды, основание которой составляет множество органов местного самоуправления, а вершину — центральные институты власти и управления. Вертикаль власти «снизу» «доверху» — стержень такой структуры. Она может быть выражена жестко или мягко (пунктиром) в зависимости от типа политического режима. Россия, переживающая переходный период от формального федерализма к реальному, стремится совместить правовую самостоятельность субъектов Федерации с некоторой мягкой вертикалью в управлении. Пока это желание остается проблемой. К ее анализу мы вернемся ниже.
Нельзя обойти вопрос об историческом характере системы государственного управления. Каждая конкретная система формируется, изменяется, развивается или деградирует вместе с государством, подсистемой которого она является. Так, в России в 1999 г., по словам Е.С. Строева — Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ в 1996-2001 гг., пока «создан лишь внешний каркас власти, не наполненный внутренней структурой. И первая же глубокая трещина способна развалить весь механизм управления страной.
Чтобы противостоять этому, срочно требуется совершенствование системы государственного устройства» [3].
Такая оценка была дана им в марте 1999 г. Но и в последующие годы, несмотря на ряд позитивных сдвигов, оценка сложившейся в России системы государственного управления оставалась весьма тревожной.
Как отмечается в выступлениях многих государственных деятелей, ученых-государствоведов и политологов, в стране все еще нередко продолжается конфронтация представительной и исполнительной властей на всех уровнях, хотя порой она значительно ослабляется. Нередко разногласия между исполнительными и законодательными органами приходится решать в Конституционном Суде РФ и в местных органах судебной власти.
Снижает эффективность действий власти и управления, а порой и усиливает возможности их кризиса, ослабляет вертикаль власти обострение взаимоотношений федерального центра, органов власти субъектов РФ и местного самоуправления, особенно на стыке их компетенции. Нередко региональные власти вмешиваются в дела местного самоуправления, пытаются вопреки Конституции РФ командовать ими. В некоторых субъектах Федерации региональная исполнительная власть вмешивается в деятельность территориальных органов федеральной власти, ставится под сомнение и институт полномочных представителей Президента России в федеральных округах.
Как отмечается в Послании Президента РФ В.В. Путина (2000 г.) Федеральному Собранию, нерешительность власти и слабость государства сводят на нет экономические и другие реформы. Власть обязана опираться на закон и сформированную в соответствии с ним единую исполнительную вертикаль.
В настоящее время в стране сложились «острова» и отдельные «островки» власти, но между ними нет надежного и эффективного взаимодействия, и прежде всего между разными уровнями власти. У нас до сих пор не выстроено эффективное взаимодействие между разными уровнями власти. Центр и территории, региональные и местные власти все еще соревнуются между собой за полномочия.
«Вакуум» власти привел к перехвату государственных функций частными корпорациями и кланами. Они обросли собственными теневыми структурами, различными группами влияния, сомнительными службами безопасности, использующими незаконные способы получения информации. Это открывает дорогу коррупции.
Коррумпированность государственных и муниципальных чиновников, участившиеся в последние годы попытки чиновников устанавливать свои выгодные им правила работы на рынке и, с другой стороны, давления на органы власти и управления со стороны бизнеса и банков, финансово-промышленных групп приобрели столь значительный размах, что о них неоднократно вынуждены прямо говорить Президент РФ, руководители Федерального Собрания, министерств и ведомств. Так, в Послании Президента РФ Федеральному Собранию России В.В. Путин в 2002 г. говорил: «Нынешняя организация работы госаппарата, к сожалению, способствует коррупции». В связи с этим остро стоит задача оздоровить аппарат власти и управления, освободить его от коррумпированных элементов, принять необходимые меры, в том числе в законодательстве и кадровой политике, чтобы закрыть доступ к государственным (и муниципальным) постам лицам с преступным прошлым.
Проблема развития не сводится лишь к созданию нормативной, законодательно оформленной модели системы. Нормативную систему практика государственного управления наполняет реальным содержанием. В переходные периоды процессы формирования нормативной системы и реального ее воплощения в действующие структуры развертываются более или менее одновременно, хотя возможна и тенденция опережения практики государственного строительства законодателем. В сложившейся и стабильно функционирующей системе управления законодатель более консервативен, чем государственная практика; он закрепляет в правовых нормах то, что уже становится или стало реальностью.
В социальной действительности универсальных систем государственного управления, ни нормативных, ни реально функционирующих, не бывает.
Конкретный тип системы определяется в основном характером политического режима, а также другими особенностями государственного устройства общества. На своеобразие системы влияют и многие прочие факторы, в том числе: уровень развития данного общества, состояние политической культуры, политические традиции, господствующие формы религии, конкретная историческая ситуация и даже территориально-географические условия страны. Едва ли нужно доказывать, что между системами государственного управления в европейских и восточных исламских государствах имеются существенные различия. Если, скажем, в европейских странах церковь отделена от государства, то в исламских религиозных учреждениях — один из главных элементов системы, а догматы Корана — ее идеологическая основа. Даже в странах со сходными формами государственного устройства имеют место различные модификации в принципе тождественных систем власти и управления. Об этом пойдет речь в следующей главе.
Присущая каждому государству общая (для него) система управления не является единственной. Наряду с ней и на ее основе выстраиваются системы управления отдельными сферами общественной жизни: экономической, политической, социальной, культурной и т.д. Кроме того, разрабатывают свои частные системы управления хозяйственно-экономические субъекты, общественно-политические объединения, церковь и прочие институты.
Универсальные признаки системы государственного управления, сложившиеся в политической истории мирового сообщества, проявляются и модифицируются в многообразии признаков, специфических для каждого государства и частных отдельных сфер государственной жизни. Своеобразие систем отмечается во всем: в концептуальной основе, в характере и структуре управляющих субъектов и взаимосвязях между ними, в наборе управленческих функций, в их конкретном содержании, в принципах и методах управления. Неизменными остаются объективная необходимость бытия системы государственного управления, ее неразрывная связь с властью и основные элементы: управляющий субъект, управляемый объект и субъектно-объектные отношения.
Общая модель системы государственного управления не остается неизменной и в рамках одного и того же политического режима. В зависимости от характера приоритетных задач, решаемых государством на том или ином конкретном историческом этапе, изменяются цели системы и в целом стратегия государственного управления. Это, естественно, влечет за собой определенную модификацию организационных структур, институтов и, что особенно важно подчеркнуть, механизма мотивации активности ведущих субъектов управления и стимулирования позитивных моментов обратной связи. В условиях стабильного функционирования данной общественной системы демократического типа утверждается система государственного управления, ориентированная на инновационный характер участия управляемых в реализации функций, системы. В ситуации кризиса возникает необходимость в мобилизационной государственно-управленческой стратегии, а соответственно, и в определенной перестройке общегосударственной системы управления. Антикризисная система государственного управления существенно отличается от той, которая функционирует в стабильных обществах, в преуспевающих странах. Тем более, если речь идет о переходном состоянии общества, каковое переживает Россия [4]. Российская макросистема государственного управления должна строиться с учетом, по крайней мере, во-первых, переходного характера общества и государства; во-вторых, состояния системного кризиса, оказывающего негативное влияние на все традиционные, общепринятые функции и структурные элементы государственного управления, его стратегию и технологию. Антикризисная система строится на приоритете экономики и является важнейшим фактором обеспечения политической устойчивости общества.
Литература
1. Поппер К. Открытое общество и его враги. — М., 1992. Т. II. С. 189.
2. Бородкин М.Ф. История самоуправления в России // Социс. 1997. № 3.
3. Парламентская газета. 1999. 12 марта.
4. Марковская Е.П., Бродский Б.Е. Антикризисное управление. — М.: Омега-Л, 2004; Игнатова Т.В., Павлов А.О., Марты-ненко Т.В., Таранников В.В. Антикризисное регулирование экономики. — Ростов н/Д: Изд-во СКАГС, 2002.
Глава 5. Государственное управление и власть
К. Поппер эпиграфом к одной из глав книги «Открытое общество и его враги», посвященной критическому анализу «принципа руководства» в трудах Платона, взял платоновский тезис: «Несведущий должен следовать за руководством разумного и быть под его властью». В нем схвачена важнейшая мысль политической теории — о неразрывном единстве управления с властью. Прошло двадцать четыре века с того времени, когда была высказана гениальным греком эта истина. Повторяется она знаменитым современным английским философом не случайно: проблема государственной власти и управления обществом и поныне остается актуальной. Во-первых, власть в современном государстве стала многофункциональным и относительно самостоятельным фактором и влияние ее на государственное управление усложнилось; во-вторых, вследствие возросшей роли государства и силы власти в современном обществе во многом острее, чем когда-либо в истории, стала проблема контроля за самой властью, иначе говоря, управления властью; в-третьих, государственная власть ныне многолика (политическая, административная, экономическая и др.) и влияние различных видов власти на управление различно. Эти и другие проблемы власти и государственного управления будут рассмотрены в данной главе.
1. Власть как главное орудие государственного управления
Государственная власть — это прежде всего власть политическая. Известно, что в научной литературе, в зарубежной и отечественной, нет единого определения государственной власти. Такая ситуация объясняется не столько «социологической аморфностью» данного понятия, сколько многогранностью власти как общественного явления.
Во всем многообразии определений государственной власти можно условно выделить две группы определений. Авторы одной группы сводят сущность власти к отношению господства людей над людьми, или к отношению подчинения всех членов общества воле одного либо узкой группе лиц. Так понимали государственную власть классики политической науки: итальянский ученый эпохи Возрождения Н. Макиавелли (1469-1527), английский философ Т. Гоббс, немецкие теоретики философ и экономист К. Маркс и социолог М. Вебер. В трактовке последнего политическая (государственная) власть есть господство, базирующееся на легитимном (внутренне оправданном) насилии. Марксистская идея политической власти как господства общей воли экономически доминирующего класса была воспринята русскими социал-демократами (Г.В. Плехановым, В.И. Лениным и др.).
Другое определение государственной власти прослеживается в современной политической науке. Его авторы, не отрицая связи власти с легитимным принуждением, подчеркивают, что принуждение тем не менее не исчерпывает сущность власти, и акцентируют ее управленческий аспект. Так, известный американский социолог и политолог Т. Парсонс в одном из своих определений рассматривает политическую власть как «способность общества мобилизовать свои ресурсы ради поставленных целей», «способность принимать решения и добиваться их обязательного выполнения» [1]. Один из патриархов американской социологии Н. Смелзер видит сущность власти в способности общественного субъекта одновременно навязывать свою волю и мобилизовывать ресурсы общества для достижения поставленной цели. Он же пишет: «...власть — это действительность системы, способность принимать законы, поддерживать порядок, защищать общество от врагов» [2]. В наших работах политическая власть определяется как способность реализации общих интересов и общих целей насильственными и ненасильственными средствами, как средство регулирования общественных отношений, как важнейший фактор управления обществом [3].
Акцент на управленческом аспекте государственной власти прослеживается в определениях власти, формулируемых учеными-юристами. Например, авторы учебника по административному праву Российской Федерации характеризуют власть как «специфическое средство, обеспечивающее подчинение воли управляемых воле управляющих» [4]. В государственно-правовом выражении — это «юридически властные полномочия». В «Теории государства и права» (А.Б. Венгеров) отмечается: «Политическая власть характеризуется способностью влиять на направление деятельности людей, социальных групп, слоев, классов посредством экономических, идеологических и организационно-правовых воздействий, а также с помощью авторитета, традиций, насилия. Это мощный фактор организации и регулирования совместной деятельности людей, средство упорядочения их взаимоотношений, способ обеспечения порядка и стабильности» [5]. Политическая (государственная) власть, подчеркивает автор, обладает концентрированной силой, превращающей ее в действенный фактор бытия. Сила власти олицетворяется в силе различных институтов государства, организационно оформляющих власть и придающих ей материальный характер.
Из приведенных определений выявляется образ государственной власти не только как способности и возможности доминирующего воздействия управляющего субъекта (государственных органов) на управляемых, но и как действенный фактор и средство организации и волевого регулирования совместной деятельности людей, как реальная мощная сила, воплощенная в системе государственных органов, олицетворяющих власть, сила, обеспечивающая отношение подчинения — важнейший компонент управления. Сказанное и дает основание рассматривать власть главным орудием государственного управления. Главным потому, что управляющее воздействие и управленческое отношение не сводится к властно-волевым, к реализации юридически властных полномочий. Вместе с тем было бы ошибочно понимать государственную власть лишь в качестве средства, обеспечивающего подчинение управляемых управляемым. Через отношение подчинения власть реализует функции управления: организации, контроля и др. Субъект государственной власти одновременно является субъектом управления. Другие государственные учреждения, участвующие в управлении, действуют по его поручению.
Двуединая сущность государственной власти, сочетающая отношения «господство — подчинение» и «управляющий — управляемый», служит источником односторонних толкований ее взаимосвязи с управленческой деятельностью государственного субъекта. Стереотип полного отождествления управления с властью как господством управляющего над управляемым, сведения управляющего воздействия к принуждению в различных его формах (административно-правовой, политической и пр.) был доминирующим в политической культуре советских чиновников; он остается таковым и по сей день. Этим главным образом объясняется стремление некоторых российских политологов теоретически разграничить понятия «власть» и «управление», выявить функциональную неоднозначность власти и управления и даже некоторую противоположность их функций в системе общественных отношений.
Такую попытку предпринял М. Рац. Автора интересует не власть как отношение господства и подчинения, а власть как деятельность. Именно в этом аспекте управление и власть, по его мнению, «в некотором смысле противостоят друг другу». А именно, управление — тип творческой деятельности, важнейшими компонентами которой являются: анализ ситуации, целеполагание и целедостижение. «Напротив, работа власти мыслится как чистая, лишенная творческой компоненты, деятельность, осуществляемая и тиражируемая согласно действующим законам и нормам». Управляющая система динамична, у нее нет фиксированных границ. Властная же жестко фиксирована: границы ее юрисдикции установлены законом, что и позволяет ей функционировать независимо от субъекта. «Оргуправленческое начало активно, а власть пассивна. Признание власти творческой деятельностью в советское время приводило к тому, что люди оказывались «винтиками», потому что власть была «революционная», она мыслила и решала за человека. Чтобы люди не были винтиками и имели нормальные условия жизни, власть должна быть «винтиком», «либо власть, где чиновники будут винтиками, либо все остальные граждане. Иного в наше время не дано» [6]. Если не разграничивать власть и управление, продолжает автор, происходит три случая: 1) власть подменяет управление, которого просто нет; 2) власть «склеивается» с управлением, тогда возникает "революционная" власть; 3) управленческие и политические методы подменяют властные решения; «путь развития для нас необходимо связан с осмыслением различия управления и власти» [7].
Мы пространно изложили соображения М. Раца не потому, что согласны с ним во всем, а учитывая теоретическую, да и практическую значимость поставленного автором вопроса. Бесспорно, прав автор, подчеркивая принципиальное различие понятий «власть» и «управление». Нельзя не согласиться и с тем, что игнорирование необходимости разграничения данных понятий фактически ведет к подмене управленческих решений властными действиями, представляющими собою технологическую сторону государственного управления. Весьма актуален акцент на необходимости преодоления в подлинно демократическом обществе «всемогущества» государственной власти и «неисчерпаемости» ее инновационного потенциала. Однако вызывает возражение та крайность, в которую впадает сам автор, критикуя «революционную» власть, позицию «склеивания» власти с управлением. Жесткость формулировки тезиса, что «путь развития для нас» «связан с осмыслением различия управления и власти», не доказывает его безоговорочную истинность. Проблема не исчерпывается установлением различия, а скорее лишь обозначается. Ее суть в том, каковы функции государственной власти в системе управления и насколько они обеспечивают реализацию функций управленческой системы. Возникают ли при этом противоречия между властью и управлением, а также внутри самой деятельности властных институтов? Таит ли в себе власть какую-либо угрозу для управления? Ответ на данные вопросы один: положительный. Двуединая сущность функций государственной власти, о чем говорилось выше, порождает и латентные и явные противоречия, а также возможные негативные воздействия на функционирование управляющей системы. Отношения «господство—подчинение», «властвующий—подвластный», принудительные санкции как атрибут власти, хотя и вписываются в структуру и задачи управляющей деятельности, однако не всегда характеризуют главную сторону технологии государственного управления.
В чем конкретно заключается роль власти в государственном управлении? Кратко сказать, власть — та реальная сила, в том числе материальная, которая обеспечивает принятие и претворение в жизнь государственных решений. В действиях власти реализуются общая воля и общий интерес основных социальных групп или большинства населения. «Единственно на основании... общего интереса общество должно быть управляемо», — писал великий французский писатель и философ Жан Жак Руссо (1712-1778).
Осуществление властью своих функций — принятия законов, поддержания порядка в обществе и контроля за конфликтами — составляет условие и важнейший аспект государственного управления. Без способности правящего субъекта мобилизовать свои ресурсы ради поставленной цели (функция власти) невозможно добиться исполнения любых программных проектов. Без сохранения властью данной общественной системы, что необходимо для нормального ее функционирования, бессмысленно говорить о переводе системы в новое состояние, соответствующее заданной субъектом управления цели. Действие последнего базируется на действии власти и является его продолжением.
Взаимопроникновение функций власти и управления порождает почву для проявления тенденций поглощения властью управленческих функций и придания управленческим отношениям всецело отношений типа господства-подчинения. Предотвращению этой тенденции способствует размежевание как функций власти и управления, так и соответствующих им аппаратов (институтов).
Аппараты государства дифференцируются соответственно решаемым ими функциональным задачам, взаимодействуя и взаимодополняя друг друга. Одни из них выполняют чисто властные функции, скажем, обеспечивают охрану общественного порядка; другие заняты непосредственно управлением общественными процессами. Третьи (правовые институты) обслуживают властные и управленческие аппараты, создавая и совершенствуя необходимую нормативную базу — источник легитимности существования и деятельности тех и других. Наконец, над властно-исполнительными, управленческими и правовыми институтами стоят высшие политические органы власти, осуществляющие общее руководство всей государственной машиной. Однако жесткой разграничительной линии между функциями аппаратов провести невозможно, ибо любое действие властей прямо либо косвенно связано с управлением.
Функции и поля действия институтов власти и управления совпадают в той мере, в какой они относятся к одному и тому же субъекту — государству и объекту — данному сообществу. Но совпадают не полностью. Поле совпадения — это аспект реализации функций власти как орудия государственного управления. А различие воздействия на общество аппаратов власти и управления — источник противоречий между ними. По своему существу — это противоречия между социальным (общественным) содержанием управления и его государственной формой (способом) осуществления. Одновременно — это и противоречия реализации функции власти в системе управления.
Отметим некоторые из противоречий. Управление прежде всего включает выбор субъектом целей и вариантов действий — творческий процесс, новации, риск, что задается интересом управляемого объекта. Власть же определяет обязательные нормы, в рамках которых действия управляющего субъекта признаются легитимными, оправданными государством, и принуждает управляемых к исполнению его целей. Правовая норма (закон) ограничивает выбор, поиск и прочие элементы активности необходимостью ее реализации. Выбор в рамках закона суть данного противоречия между управляющим действием и властью.
Другое противоречие. Принятие решения, мобилизация ресурсов для его осуществления и достижение поставленной цели обеспечивается властью всеми средствами, которыми она располагает, вплоть до физического принуждения управляемых. В арсенале же субъекта управления методы принуждения — не основные, а, скорее всего, резервные. Его специфические средства воздействия на управляемых разнообразны: организационные, экономические, социальные, информационные, материальное и моральное стимулирование, влияние авторитетом руководящего субъекта, основанного на знании, профессиональности и опыте, мобилизующий характер программных целей и т.д. Легитимное принуждение (прямое или косвенное, реальное или возможное), с одной стороны, и добровольно осознанная необходимость и потребность действовать в соответствии с намеченной управляющим субъектом целью — таково данное противоречие в системе реализации государством своей основной функции.
Не менее существенно противоречие, отмеченное М. Рацем: управление обеспечивает рационально направленное изменение и развитие системы. Государственное управление — это тип социальной инженерии; деятельность по преобразованию управляемого объекта общественного организма, придающая ему рационально обоснованный образ и структурирующая в соответствии с целями управляющего субъекта и управляемых. Власть на страже стабильности управляемого организма в рамках конституционных основ. Данные противоположности, однако, не тождественны тем, которые подчеркиваются автором: «динамичность» управления и «фиксированность» действий власти; «активность» первого и «пассивность» второго. Власть не менее активна, чем субъект управления, но направленность ее активности иная. Например, исполнение закона конкретно, сообразно особенностям объекта властвования (сообществу людей) и общественно-исторической ситуации. Кроме того, не может быть вечных законов. Словом, ни чиновник, ни, тем более, законодатель, равно как и рядовой гражданин, не должны быть «винтиками» государственной машины. Каждый должен быть не только исполнителем, но и активным участником общественного управленческого процесса. Процесс исполнения закона — это волевая деятельность лиц, трактующих тот или иной закон в контексте данной ситуации, политической конъюнктуры и доминирующих в правоприменительной практике акцентов.
Наконец, нельзя не отметить противоречие, связанное с ролью личностного фактора. Как субъект власти, так и субъект управления существуют в форме государственных институтов. Безличностный характер института государственной власти, функционирующего на основе объективного, по отношению к отдельной личности, правового закона, — атрибут власти. В демократической системе государственная власть — это власть закона. Волюнтаристский произвол здесь сведен к минимуму. Институты управления в принципе также безличностны, однако они в большей мере, нежели властные, правовые, «населены» активно действующими по своему разумению персоналиями и в значительной степени зависят от них. Институт определяет направленность деятельности объединенных в нем лиц, а также принципиальную технологию управленческого труда. Конкретная же реализация этих элементов зависит от персонального состава данного института. Она, в отличие от институтов власти, не предопределена жесткими рамками правового закона, а многовариантна. Следовательно, описываемое противоречие — это противоречие в функционировании институтов власти и управления: между законом заданными правилами действия субъектов властных институтов и выбором вариантов и средств деятельности персоналий в рамках общих установок институтов системы управления.
Возникает вопрос, возможно ли сочетание отмеченных противоречивых аспектов и способов действий в единой системе государственного управления? Не только возможно, но и необходимо. На таком сочетании основывается сама эта система. Проблема — в осознании кадрами чиновников различных уровней имманентных противоречий системы и умении учитывать их в стратегии и тактике управления. Вместе с тем анализ противоречий позволит понять опасность использования инструментов государственной власти в управлении. Обобщенно говоря, она таится в абсолютизации роли властных методов воздействия на управляемых, что создает условия для претензий властного субъекта на расширение зоны своего влияния и подмены управляющего субъекта. Командно-административная авторитарная система управления строится именно на такой основе. Типичная модель управленческого отношения в этой системе: «приказ — исполнение». Проявления абсолютизации роли власти многообразны: расширение влияния властных институтов за пределы, допустимые природой управления; концентрация власти в руках ограниченной группы лиц, действующих вопреки общим интересам и целям системы управления; доминирование во властных институтах личностного фактора; подмена методов, свойственных социальному управлению, методами административного и политического принуждения и т.п. Причем реальная возможность отмеченных крайностей возрастает при отсутствии или несовершенстве законодательной базы. Так, вопросы политического управления, по словам русского историка В.О. Ключевского (1841—1911), решаются силой, когда отсутствует закон.
Итак, управление предлагает использование власти: права принимать решения, отдавать распоряжения и заставлять их выполнять, добиваться ответственности управляемых за исполнение путем применения санкций (наказания или одобрения). Но всякая власть опасна, политическая не в меньшей мере, чем экономическая; «государственная власть всегда была и остается опасным, но неизбежным злом». Опасность власти, по мнению английского философа, блокируется ее институционализацией. «Всякая широкомасштабная политика должна быть институциональной, а не личностной» [8]. К. Поппер (1902-1994) сравнивает два метода вмешательства государства в экономику: а) проектирование правовой структуры и протекционистских институтов (законов, ограничивающих какую-то деятельность); б) предоставление некоторым государственным органам свободы действий в пределах достижения целей правительства. Первый метод — это косвенно институциональная процедура; а второй — «личное» или «прямое» вмешательство. Первый метод автор рекомендует применять в демократическом управлении; применение же второго — ограничивать, где только возможно. Первый — рациональный, второй — иррациональный, ибо он вносит элемент непредсказуемости в последствия его действия [9]. К. Поппер между тем отмечает, что институты одного типа могут предоставлять безграничную власть одному лицу, а другого типа — отнимать ее. И те, и другие могут быть в государстве. Следовательно, не любой институт может быть гарантией предотвращения опасности власти, хотя, конечно, безличностная, функционирующая по легитимным нормам организация, — наиболее надежная и эффективная форма контроля за властью, форма управления ею.
Государственный институт как вид социального института суть структура, представляющая общую формализованную модель устойчивых общественных отношений, которая копируется конкретными индивидами (управляющими и управляемыми). Два элемента института: структурная модель и совокупность коллективных представлений, связанных с ценностями, по М. Дюверже, обеспечивает его стабильность и способность быть орудием социального контроля, в том числе административно-государственного и политического.-
Институт — посредник между государством и обществом. Он наделен государством определенными властными полномочиями, осуществляет их от имени государства и под свою ответственность. Тем самым государственная воля приобретает конкретную концентрированную форму своего бытия и действия. В этом преимущество государственного института по сравнению с организациями непосредственного выражения воли граждан.
Огромное значение государственных институтов в том, что при помощи передачи полномочий (прямой или через выборный орган) воля политического организма (государства) сосредоточивается в одном учреждении, деятельная мощь которого служит реализации любой полезной общественной цели. Государственный институт — наилучший, открытый политическим мышлением людей, способ агрегации и артикуляции интересов граждан, членов данного сообщества. Вместе с тем передача (делегирование) властных полномочий институту — определенному человеческому коллективу, объединенному общей идеологией, корпоративным интересом и подчиненному авторитету и фиксированным нормам, — таит в себе реальную возможность многих негативных превращений делегированной воли сообщества. Ведь институт обретает совокупность элементов: кадры профессионалов, материальные средства деятельности, символы, правила игры, — трансформирующих его в некую самостоятельную структуру по отношению к делегировавшим ему свою властную волю и полномочия. Он уже воспринимается, да и во многих случаях действует как субъект-самопричина causa sui своей власти. В результате делегированная власть превращается в самовластие, воля государства — в своеволие сплоченной, официально оформленной группы, реализация полномочий — в процесс действия диктаторской власти.
Свойство превращаться в самостоятельную силу, стремящуюся возвыситься над государством, прежде всего, присуще административно-государственным аппаратам (как разновидности институтов). Многие зарубежные исследователи отмечают возрастание роли административного аппарата в системе государственного управления. Так, французские ученые М. Понятовский и Ален подчеркивают, что административный аппарат имеет тенденцию подмять государство, тогда как на самом деле он должен служить ему. В современном государстве подлинной властью располагают не политические деятели, а высокопоставленные чиновники из аппарата управления [10]. Такая тенденция издавна составляет неотъемлемую черту государственной власти и управления в России. Царская бюрократия, партийно-государственный номенклатурный аппарат в советской системе, всемогущий аппарат президентской администрации и администраций субъектов Федерации в нынешней России — все эти институты правящей власти стремились и стремятся стоять над государством — воплощением единой воли народа.
Трансформация государственного института в самостоятельную политическую, административную и нематериальную силу, узурпирующую делегированную государством власть в собственную корпоративную власть, характерна и для руководящих, правящих должностных лиц и институтов. Диалектика процесса превращения коллективного органа делегированной власти в персональный субъект в принципе та же, что и трансформация государственных полномочий во власть по сути закрытого сообщества чиновников, объединенных солидарностью, направленной на сохранение своих привилегий.
Политическая история нашей страны имеет, можно сказать, классический пример превращения политического правящего института и его вождей в свою противоположность: из представителей народа — в аппарат, господствующий над ним. Речь идет о коммунистической партии, ее политическом штабе — ЦК, ее бывших вождях. Установленная в советском режиме система политических отношений: массы — партия — ее руководящий центр ЦК — государственные учреждения — рассматривалась как желаемая модель нового политического строя. Опасения некоторых зарубежных коммунистов относительно возможности возникновения в рамках такой модели «диктатуры партии» или «диктатуры вождей» во внимание не принимались.
Что же выработал исторический опыт политического развития передовых стран в качестве контрфакторов трансформации государственных институтов в самостоятельную, противоположную народу и государству властную силу? Политическую демократию как способ общественного контроля за властью, как форму самоуправления государства.
Демократия зарождалась и развивалась в борьбе передовых сил общества против постоянного стремления государства к тирании, к безграничному господству над людьми. Демократия утверждалась с целью обуздать произвол государственной власти, защитить человека от этого произвола и «надеть уздечку закона на непокорного коня». Важнейшими правилами политической демократии стали: первое — недопустимость концентрации государственной власти в руках одного или группы правителей, разделение центров власти и автономность ее субъектов; второе — выборность и сменяемость облеченных властью всех уровней; третье — контроль общества над всеми видами власти через посредство всеобщих выборов, проведения референдумов и всех других форм волеизъявления народа и самоуправления; четвертое — господство правового закона.
Рассмотрим механизм взаимодействия различных видов государственной власти, порожденный практикой государственного управления в современных общественных системах.
2. Механизм взаимодействия властей и управление
Практически в системе государственного управления власть осуществляется во многих конкретных видах, таких как политическая, административная, экономическая, организационная, информационная, идеологическая, наконец, военная. Эти понятия используются при характеристике структуры органов власти управления ряда стран. К примеру, функция правительства Германии — управление — включает «исполнение законов» и «организационную власть», исполнительная власть правительства подразделяется на «правящую» и «административную» власть [11]. В научной литературе, в том числе отечественной, встречается понятие «административная власть» как производное от юридического — «административное право». И. Василенко, анализируя зарубежные теории «административно-государственного управления», обращается к понятию «административная власть», которая подчинена закону и подотчетна представительным органам, связана, как и вся система «административно-государственного управления», с «тремя сферами» власти: законодательной, исполнительной и судебной. Данное понятие, по автору, синоним власти исполнительной [12]. Набор таких понятий, как «политическая власть», «экономическая власть», «административная власть», использовал в своем названном выше труде по философии и политике К. Поппер.
Все сказанное означает, что проблема роли государственной власти в управлении и блокирования тенденции «демонии» власти (чрезмерного расширения сферы ее действия и бесконтрольности) не исчерпывается регулированием взаимодействия трех ветвей государственной власти. Вопрос управляемости самой власти в системе государственного управления включает ряд других аспектов механизма функционирования властей.
Начнем с уточнения понятий, без чего трудно разобраться в поставленном вопросе. Понятие «политическая власть» прежде всего, означает государственную власть вообще. Политическая — государственная власть функционирует в виде известных трех ветвей (или сфер) власти. Другой, более узкий, смысл данного понятия — обозначение власти руководящих государственных органов и негосударственных (общественных) организаций, например партий. В таком толковании политическая власть, воплощенная организационно в отдельных конкретных институтах, означает способность последних влиять на поведение и деятельность людей с помощью политического авторитета государственного органа, регламентации поведения, определенных актов, идей, государственных символов, социально-политических норм, традиций и социальных ценностей. Когда говорят, например, об отделении административно-государственного управления, аппарата государственного администрирования от политики, то имеется в виду политическая деятельность, связанная с принятием общих руководящих решений, с разработкой принципов и стратегий управления, с борьбой за власть.
Политическая власть характеризуется четкими существенными признаками: ее источник — народ; непосредственный субъект — государство, его органы (институты); ее основная функция — выражение общей воли и защита общих интересов социальных групп, регулирование общественных отношений и социальных конфликтов. Политическая власть, будь то государственная или партийная, отличается от других видов власти названными признаками. Она первенствует среди всех других, потому что воплощает собою волю и интересы общества в целом или больших социальных групп и слоев. В этом ее сила и одновременно опасность. Расчленение единой государственной политической власти, ее функций на три составляющие (законодательную, исполнительную и судебную) означало решение двух взаимосвязанных исторических задач: защиты общества от самовластия правителей и всемогущества государственной машины, а также разделения труда в сфере государственной власти как деятельности.
Административная власть — понятие, обозначающее один из видов исполнительной власти, отождествляющейся с властью управляющего субъекта. Ее функция двойственна: принуждение к исполнению правовых норм и реализация государственных полномочий для обеспечения функций управления. Субъект административной власти — административный институт как агент государства и его аппарат (орган госслужбы), действующий по поручению, от имени государственной исполнительной власти, но не от политических представительных органов. В качестве субъекта выступают и отдельные должностные лица, которые нередко превращают индивидуальную властную волю в государственную. Объект действия административной власти: конкретные индивиды, малые социальные группы, трудовые коллективы, межличностные и групповые отношения, разнообразные процессы трудовой и иной общественной деятельности и поведения. Типичная модель властеотношения (администрирования): «команда (приказ) — исполнение», основное средство воздействия на подвластного — различные формы принуждения (открытого или реально возможного), выступающего в виде санкций, фиксирующих ответственность человека перед властью. Административная власть, в отличие от политической, является орудием защиты и реализации интересов не целого (общественной системы), а части, отдельных групп, организаций. В этом смысле администрирование и как властеотношение (тип командования) и как управленческая деятельность — конкретно ориентированная, аппаратная деятельность государственных служащих. Администрирование — процесс управляющей деятельности — отнюдь не сводится только к принуждению исполнять закон или какую-либо руководящую директиву политического органа. Принуждение, санкции — лишь необходимая, но не самодостаточная часть механизма осуществления власти.
Если роль административной власти абсолютизируется, самостоятельность по отношению к другим властям преувеличивается, то возникает синдром «демонизации» администрирования. Многообразие средств и методов воздействия управляющего субъекта на управляемых сводится к командованию и применению репрессивных санкций. Это происходит в ситуации, стимулирующей, с одной стороны, потребность усиления действия административной власти, а с другой, — ее бесконтрольности. В частности, в условиях социального или экономического кризиса государственные органы вынуждены прибегать к различного рода чрезвычайным мерам обеспечения нормального функционирования политической и экономической систем, широко использовать принудительные санкции, скажем, для погашения конфликтов, при распределении ресурсов и пр. Господство командно-административной власти в управлении — приоритет авторитарных режимов. Низкий уровень профессионализма и политической культуры государственной службы — также один из факторов, обусловливающих подмену подлинной технологии управления как творческой деятельности — «употреблением» власти.
Административная власть нормально, по своему определению, функционирует, если, во-первых, нормативно очерчены сфера ее действия и функции в системе управления в качестве средства, но не цели; во-вторых, при условии подконтрольности со стороны других институтов исполнительной и законодательной власти, а также гражданского общества. Проблема управляемости административной власти — это извечная проблема бюрократизма. Ее решение — суть минимизации последствий бюрократизма в государственном управлении.
Организационная, правовая, экономическая, информационная, военная власти есть не что иное, как конкретные виды осуществления государственной власти, различающиеся способами и средствами воздействия на подвластных. Эти разновидности власти, за исключением правовой и военной, служат также средством регулирования общественных отношений и социального контроля вне государства, в границах гражданского общества. В таком случае они являются модификациями социальной (общественной), а не государственной власти.
В современных обществах значительно возросла роль в деятельности государства экономической и информационной властей. Поскольку государство становится агентом экономического процесса, то использование экономических средств политического господства над людьми и в целях управления вполне закономерно. Экономические стимулы, власть денег — это своеобразная «невидимая рука» государственной воли и интересов, заменяющая административно-правовое принуждение и физическое насилие. Она «достает» и отдельных граждан, и любые социальные группы, и организации общественно-политические, не нуждаясь в какой-либо легитимности. Сила экономической власти — в вездесущем материальном интересе общественных субъектов. Влияние экономической власти на само государство, все его ветви и уровни власти и управления противоречиво: из средства осуществления государственной политической воли она превращается в господствующую над государством силу. Особенно в условиях ограниченности материальных ресурсов и концентрации львиной доли общественного богатства в руках кучки собственников.
Опасность чрезмерного влияния на общество экономической власти и ее доминирования над политической, государственной побуждала и побуждает искать пути ее ограничения и разумной регламентации. Основной путь, предложенный западной цивилизацией, — отделение государства от экономики, государственной власти — от собственности. Однако, как уже говорилось, либеральная концепция оказалась во многом несостоятельной. Не случайно теоретики неолиберализма, в частности наиболее известный из них — английский философ и политолог К. Поппер, пишут о необходимости защиты общества от всесилия экономической власти. Нельзя допустить, чтобы экономическая власть доминировала над политической, подчеркивает К. Поппер. Государство само защитит граждан от злоупотребления экономической властью. Против экономического всевластия существует одно средство — политическое средство — государство. Поэтому принцип невмешательства государства в экономику должен быть отброшен. Политическая власть и присущие ей способы контроля — это самое главное в жизни общества [13]. Вместе с тем автор объективно оценивает негативы политической власти, видя единственный способ защиты от злоупотребления ею — в демократии. Таким образом, фактор «сдержек» и «противовесов» — необходимое условие функционирования и нормального взаимодействия в системе управления экономической и политической властей.
В индустриальном и постиндустриальном обществах мощным орудием государства стала информационная власть. Уже говорилось о постоянно возрастающем влиянии на управление средств массовой информации, главным образом телевидения. Это влияние переросло в реальную силу с присущими ей специфическими признаками.
Современные СМИ представляют собой организованные группы профессиональных работников, особый аппарат, обладающий мощными техническими средствами воздействия на сознание и волю человека, на его общественное поведение и деятельность. Организации СМИ закрытого типа, имеющие свою систему норм поведения ее членов, а также регулирующих взаимоотношения с потребителями телеинформации, норм, обусловленных как спецификой профессиональной деятельности, так и требованиями технических средств и технологии производства и тиражирования информации. СМИ способны выражать интересы и волю общества или его части, навязывать их различным слоям населения и отдельным гражданам, принуждать к подчинению установленным государством нормам; способствовать сохранению и закреплению существующего порядка или, наоборот, стимулировать его разрушение. Власть СМИ основывается на «перевесе» в знании (Каутский), на силе общественного мнения, пропаганды и современной рекламы. Современные средства массовой информации превращают в материальную силу знания, идеи. В XVIII в. французский просветитель, правовед и философ Шарль Луи Монтескье (1689—1755) писал, что функции прессы сходны с функциями полиции: она выражает нужды граждан, передает жалобы, разоблачает злоупотребления, беззаконные действия, она принуждает к нравственности всех обладателей власти, для чего их достаточно поставить перед лицом общественности. Ныне функции, о которых писал французский теоретик, намного превосходят прошлые. Теперь СМИ — супероружие в идейно-политической борьбе как внутри страны, так и на международной арене, доказавшее свою эффективность в разрушении советской системы и каждодневно подтверждающее свою властную мощь в качестве опоры нынешнего политического режима в России.
Многие политики и журналисты, учитывая влияние СМИ в обществе, нередко называют их «четвертой властью» — наряду с законодательной, исполнительной и судебной ветвями государственной власти.
На наш взгляд, следует иметь в виду, что «четвертая власть» — это выражение фигуральное — ветвей государственной власти только три вышеназванных и никак не больше. Другое дело, что в каждом государстве наряду с государственной властью могут иметь место и власть органов местного самоуправления, власть олигархических кругов, мафиозных и бандитских группировок. Хотя две последние и им подобные «власти» и играют нередко значительную роль в жизни общества, того или иного государства, однако к государственной власти не относятся, несмотря на то, что порой могут проникать в государственную власть, даже частично или полностью узурпировать ее. Кстати, власть СМИ, в том числе так называемых «независимых», зачастую отнюдь не независима, поскольку многие СМИ, как известно, находятся в собственности тех или иных олигархических кланов, а порой и мафиозных структур и во многом выполняют волю своих хозяев.
Как и всякая власть, информационная стремится расширить сферу и силу своего влияния в государстве, в системе управления; она не только взаимодействует с политической, административной и экономической властями, но и конкурирует с ними. «Демонизм» этой власти опасен для общества, его демократических устоев не меньше, чем диктатура чиновников и денежного мешка. Предотвращение его возможно на пути интеграции в систему реальной политической демократии и общественного контроля со стороны институтов гражданского общества.
Итак, государственная власть функционирует в различных ее ветвях, формах, видах и на разных уровнях. Функции каждого вида и уровня власти в системе государственного управления специфичны. Роль основного орудия управления она может выполнять, если сама управляема.
3. Авторитарный и демократический типы государственного управления. Структура субъектов власти и управления
Конкретно-исторические типы государственного управления находят выражение в политических режимах, существующих в той или иной стране. Политический режим есть совокупность политико-правовых институтов, методов и средств осуществления государственной власти и управления обществом. Характер политического режима воплощается в первую очередь в том, кто является в данном государстве субъектом политической власти и как осуществляются власть и государственное управление. Сущность политического режима обусловливает характер взаимодействия государственного субъекта с управляемым объектом — обществом, народом. В зависимости от политического режима управляющие субъекты, а соответственно и системы государственного управления, различаются как авторитарные и демократические. Данная типология относительна, так как в мировом сообществе существуют различные модификации авторитарных и демократических систем, в том числе смешанные и переходные.
Авторитарный тип государственного управления — это такой, в котором субъект представлен жестко иерархизированным институтом во главе с верховным правителем — индивидуальным или элитной узкой группой (партийной, олигархией и пр.). Авторитарный субъект реализует себя через единую вертикаль власти, идущую только сверху вниз, и преимущественно в совокупности методов принуждения и физического подавления объекта властвования. В своем крайнем проявлении (тоталитаризм) авторитарный субъект отвергает относительную самостоятельность управляемого объекта и возможность его активности (субъективации) в любой форме. В системе авторитарного управления признается исключительно однонаправленное воздействие господствующего, властвующего субъекта на подвластный объект (общество, народ, его организации). Проблема обратной связи (обратного воздействия) по сути волюнтаристски снимается. В историко-типологическом плане авторитарная система — это традиционный, или, в лучшем случае, — традиционно-эмпирический тип государственного управления.
Демократический тип государственного управления. Субъект управления здесь представлен иерархической структурой политических институтов и руководящих должностных лиц, избранных народом и сменяемых им. Демократической системе управления также присуща вертикаль государственной власти, но идущая как сверху вниз, так и наоборот — снизу вверх, что предполагает контроль общества над властными структурами. Демократический субъект функционирует в системе взаимодействия с управляемым объектом. Она слагается из процессов объективации субъекта и субъективации объекта, регулируемых демократическими принципами.
Известно, что демократические политические режимы существуют в трех видах организации власти, характеризующих форму республиканского правления: парламентской, президентской и полупрезидентской. При парламентском режиме приоритетный высший субъект власти и управления — выборный коллективный орган — парламент и соответственно выборные органы (коллективные субъекты) нижестоящих административно-территориальных или федеральных образований. При президентской форме правления высший субъект власти и управления представлен двумя избираемыми институтами: законодательным — парламентом и главой исполнительной власти — президентом. Полупрезидентская форма правления отличается тем, что статус высшего субъекта государственной власти и управления разделяют избираемые народом парламент и президент, являющийся главой государства и выступающий гарантом конституционного строя.
Авторитарный и демократический типы государственного управления характеризуются существенно отличающимися структурами субъектов власти и управления. Это подтверждает сравнительный анализ систем власти и управления в бывшем Советском Союзе и в современной России, в США и Великобритании. Наш выбор объектов анализа определяется качественным различием политических режимов в данных странах. В плане актуальности и доступности понимания проблемы особенно целесообразен анализ властно-управленческих структур советской системы и нынешней России.
Предварительно заметим, что в качестве предмета рассмотрения нами берутся нормативные, конституционно провозглашенные государственные институты.
Такой подход освобождает авторов от политических оценок сравниваемых институтов в их реальном функционировании и полемики со стереотипными политически и идеологически конъюнктурными суждениями.
Сравнительный анализ политических институтов включает сопоставление их по вертикали и горизонтали: сравниваются однородные структуры субъектов всех ветвей власти и управления — в центре (на высшем уровне), на региональном и местном уровнях, сопоставляются институты и органы власти, сосуществующие на одинаковых уровнях — набор центральных, региональных и других институтов, партийные системы, хозяйственно-организаторские органы, культурно-политические модели. Изучение взаимоотношений между государственными институтами и политическими партиями, правительством и управляемыми, исследование форм и видов политического участия — также составной аспект сравнительного анализа.
Согласно Конституции СССР (1977) и Конституции РСФСР (1978) политическая система включала: «общенародное» государство, «ядро политической системы» — КПСС, общественные организации, трудовые коллективы. Народ осуществлял государственную власть через Советы народных депутатов, составлявшие политическую основу СССР и «единую систему органов государственной власти всех уровней»: высшего (общесоюзного), регионального (республиканского, краевого, областного) и местного. Одновременно Советы образовывали единую вертикальную структуру субъектов государственной власти и управления. «Советы народных депутатов непосредственно и через создаваемые ими органы руководят всеми отраслями государственного, хозяйственного и социально-культурного строительства, принимают решения и обеспечивают их исполнение, осуществляют контроль за проведением решений в жизнь». Организация и деятельность Советов как субъектов государственной власти и управления строилась «в соответствии с принципом демократического централизма: выборностью всех органов государственной власти снизу доверху, подотчетности их народу, обязательностью решений вышестоящих органов для нижестоящих» [14].
Единая вертикальная система Советов как субъектов государственной власти и управления и образуемых ими аппаратов воплощала в себе неразделенные законодательную и исполнительную политическую и административную виды власти и управления. Однако параллельно с этой вертикалью выстраивалась другая, возвышающаяся над ней — система органов КПСС — «руководящей и направляющей силы» советского общества. Это была жесткая иерархическая структура субъектов политической власти и руководства. Несмотря на то, что партия была массовой общественно-политической организацией, ее включение в конституционно установленную политическую систему и созданную вследствие этого правовую базу для вмешательства партийного аппарата как органа корпоративной политической воли в государственное управление придало советскому политическому режиму авторитарный характер. Формально закрепленные Конституцией демократические институты и нормы в значительной степени оказались скованными авторитарным партийно-бюрократическим аппаратом; поле их функционирования сокращалось по мере возрастания уровня властных субъектов.
Итак, советской политической системе была присуща двойная иерархическая структура субъекта власти и управления: государственная и партийная. Последняя служила политико-идеологическим стержнем, скрепляющим все уровни первой в единую систему централизованной государственной политической власти и управления.
Объект государственно-партийного руководства и управления охватывал все имеющие в большей или меньшей мере общественное значение коллективные формы жизнедеятельности людей и социальных отношений. Внутренние механизмы саморегуляции официальной политико-идеологической доктриной отвергались, а ее стихийное, объективно обусловленное действие пробивалось лишь фрагментарно, в частности в виде теневой экономики. Во властно-волевом определении границ объекта воздействия государства проявлялся авторитарный характер управляющего субъекта.
Политическая система современной России принципиально отличается от бывшей советской системы. Государственная власть в РФ осуществляется, как установлено Конституцией РФ 1993 г., на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы всех ветвей власти самостоятельны. Субъектами государственной власти в Российской Федерации являются: Президент России, Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума), Правительство России и суды РФ. Субъектами государственной власти в республиках, краях, областях, городах федерального значения, автономной области и автономных округах являются органы государственной власти, создаваемые этими образованиями. Каждый из обозначенных субъектов государственной власти включает аппарат соответствующего ему уровня. Институт Президента — Администрацию Президента, Федеральное Собрание — аппараты Совета Федерации и Государственной Думы, Правительство РФ — образуемый им аппарат. Соответствующие аппараты организуются и функционируют в субъектах Федерации.
Описанная структура субъектов государственной власти образует систему. В ней, однако, нет единого стержня — общей вертикали власти. В общероссийской политический системе выстроена только вертикаль президентской власти: Президент России — Администрация Президента — полномочные представители Президента в субъектах Федерации. В ней — симбиоз политической и административной властей. Функция политического контроля, которой наделил Президент РФ свою Администрацию и своих полномочных представителей, в известной мере воспроизводит былую практику органов КПСС.
Другая структура субъектов государственной власти представляет собой совокупность федеральных органов — Правительство РФ, его учреждения (министерства, службы, агентства и пр.) и их территориальные органы, а также органов власти федеративных образований. Причем последние самостоятельны, обладают всей полнотой государственной власти «вне пределов ведения» РФ и ее полномочий по предметам совместного ведения с субъектами Федераций. Единство всех субъектов исполнительной власти, как заявлено в Конституции РФ, выражается в том, что: а) система органов государственной власти федеративных образований устанавливается, хотя и самостоятельно, но в соответствии с основами конституционного строя России и общими принципами организации представительных и исполнительных органов власти, установленными федеральным законом; б) федеральные органы власти и органы власти субъектов Федерации образуют «единую систему» «в пределах ведения» РФ и ее полномочий по предметам совместного ведения с субъектами Федерации.
Отметим, что, в отличие от советской системы, в политической системе России не обозначены ни общественные организации, ни трудовые коллективы. Это положение, на наш взгляд, противоречит провозглашенному в ст. 3 установлению, что «единственным источником власти» в России является «ее многонациональный народ». При характеристике системы государственных органов власти в Конституции нигде понятие «власть» не стоит рядом с понятиями «управление» и «руководство». Так, понятие «руководство» встречается в Конституции один раз при определении полномочий Президента в области внешнеполитической деятельности государства. Статья 86 гласит: «Президент Российской Федерации: а) осуществляет руководство внешней политикой Российской Федерации». В других статьях, узаконивающих властные функции главы государства, используются понятия, реже близкие по смыслу к понятию «руководство», а чаще — различающиеся. К примеру: «Определяет основные направления внутренней и внешней политики государства», «назначает» должностных лиц, «представляет» Федеральному Собранию кандидатуры на высшие государственные должности, «формирует и возглавляет Совет Безопасности Российской Федерации», и др.
Понятие «управление» в Основном Законе РФ применяется также в одном случае. В статье 71, при перечислении предметов ведения Российской Федерации: «д) федеративная государственная собственность и управление ею». Это же понятие повторяется в ст. 114, п. «г» при определении полномочий Правительства РФ. В прочих статьях фигурируют понятия: Председатель Правительства «определяет» основные направления деятельности Правительства; Правительство «разрабатывает», «обеспечивает», «осуществляет меры», «издает постановления» и т.д. Функции государства формулируются в таких положениях: «обеспечивается государственная поддержка», «гарантируются единство экономического пространства ...поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности» и т.д. (ст. 8).
Законодатель, разумеется, не игнорирует управляющую функцию органов государственной власти, а вводит ее реализацию в русло деятельности исполнительной власти. Таким образом, понятие «государственное управление» поглощается понятием «исполнительная власть», заменяется им. Стремление законодателя отойти от четкого определения управленческих функций субъектов государственной власти — бесспорное влияние западных моделей политики. В условиях России такая установка предопределила резкое сужение управляющего воздействия государства на общество. Между тем реальное состояние его нуждается в государственном регулировании и руководстве.
Практическая реализация либеральных установок, закрепленных в Конституции РФ, привела к уходу государства из ключевых сфер реальной экономики и других жизненно важных областей деятельности общества. Разрушение прежних механизмов управления и ориентация лишь на спонтанные механизмы рынка создали в стране ситуацию неуправляемости и ослабления государственной власти, в значительной мере лишенной ее управленческих функций.
Субъекты государственной власти, различных ее ветвей и уровней, будучи самостоятельными, независимыми друг от друга и объединенными в единую систему только общими конституционными принципами организации и деятельности, соответствуют демократическим стандартам. Однако лишение органов законодательной власти на федеральном и региональном уровнях контрольных функций по отношению к органам исполнительной власти вывело последние из-под влияния общественности, сняло необходимые в демократической системе ограничения власти административных аппаратов. Правящие субъекты, избранные народом по всем правилам формальной демократии, стали обретать авторитарные черты. Полуавторитарный, полудемократический характер нынешнего политического режима в России стал реальностью, признаваемой многими политиками.
Перейдем теперь к анализу общепризнанных демократических субъектов государственности и управления. Сравним структуру субъектов в США — президентской республике — ив Великобритании — конституционной монархии, государстве с классической западноевропейской демократией.
США — республика по форме правления, а по форме государственного устройства — федерация. Федеративная форма государственного устройства определила основную структуру субъекта государственной власти. Ее составляют два уровня: федеральный (общегосударственный) и уровень штатов. Первый уровень представлен высшим органом законодательной власти — Конгрессом, состоящим из двух палат: сената и палаты представителей, и президентом — главой государства и федерального административного аппарата. Государственные органы власти в штатах — законодательные собрания и губернаторы, избираемые народом.
Конгресс осуществляет руководство государством через свою законодательную деятельность и контроль за работой правительственных учреждений и ведомств. Сенат принимает участие в назначении на высшие должности государственного аппарата. Он же осуществляет и такую политическую функцию, как принятие государством международных обязательств в форме договоров. В составе обеих палат — постоянные и временные комитеты, которые «специализируются в конкретной области государственного управления» [15]. Политический облик Конгресса формируется фракциями двух партий — республиканской и демократической. Кроме основной деятельности конгрессмены обсуждают на заседаниях фракции актуальные политические, а также экономические и социальные вопросы.
Президент США — высшее должностное лицо в политической и административной власти и во всей системе государственного управления страной. Он возглавляет важнейшие государственные институты: администрацию президента (правительство), исполнительное управление президента, координирующее и контролирующее важнейшие стороны деятельности государства, совет национальной безопасности. Президент — центральная фигура в системе институтов политической власти и руководства. Он — главнокомандующий вооруженными силами США, фактический лидер законодательной политики, формирует «законодательную программу администрации и серии посланий Конгрессу» [16]. При Белом доме функционирует управление по разработке политики.
Административные учреждения штатов по своей структуре и методам работы (и законодательные собрания, и институт губернаторов) во многом сходны с Конгрессом и институтом Президента.
В структуре правящего субъекта в США свое место занимает государственный аппарат и госслужба. В его составе высший слой госслужащих, политических руководителей, назначаемых Президентом, и корпус профессионалов-чиновников. Велика численность государственных служащих. На конец 1980-х гг. она составила 16,4 млн. человек, в том числе 18% — федеральные служащие [17]. Существенной особенностью структуры государственного управления и власти является децентрализация этих институтов и широкая автономия как органов власти штатов, так и местного самоуправления. Тем не менее, штаты не располагают такими полномочиями, которые позволили бы им изменить форму правления, закрепленную конституцией, выходить самостоятельно на арену международной деятельности, и т.д. Децентрализация власти, осуществленная в США, не подрывает единства государства и общей системы управления страной. Она вместе с другими компонентами американской демократии придает этой системе целостность в многообразии ее элементов, обусловливает мощный потенциал внутренних источников активности.
Анализ американского субъекта государственной власти и государственного управления был бы неполным, если бы мы не отметили роль элит, составляющих правящий слой, выражающих интересы наиболее влиятельных социальных групп. В США нет единой властной элиты, а есть многообразие элит, в частности промышленники, бюрократия, военные, политическая элита. В большинстве своем элита политической власти в Америке состоит из «политических чужаков» из делового мира. В составе ее лишь небольшая группа обладает мандатом избирателей. Исследователи американской политической системы отмечают, что США управляются ограниченной элитой, в которую входят представители различных доминирующих в американском обществе групп интересов.
Американский ученый М. Паренти зафиксировал «завидное постоянство» состава американского Конгресса. Если в XIX в. Конгресс обновлялся после каждых выборов наполовину, то в 40-х гг. XX столетия новичков уже было до 30%. В последние десятилетия их от 11 до 13%. В 1986 г. из 393 конгрессменов, выставивших свои кандидатуры для переизбрания, 385 одержали победу, т.е. 98% [18]. Однако это не означает, что американским государством правит монолитная элита. М. Паренти подчеркивает, что политику в США диктуют разнообразные элитарные группировки, имеющие противоречивые корпоративные интересы. Их объединяет, по мнению известного американского политолога С. Хантингтона, широкий консенсус по основным политическим ценностям и убеждениям. Широкий масштаб согласия по поводу американских идеалов («американской веры»), указывает автор, не закрывает постоянный разрыв между американскими политическими идеалами и политическими институтами. Этот разрыв изменялся в течение американской истории, то сужаясь, то расширяясь. «Он постоянно находился в центре американской политики» [19].
Существенно отличается общая структура субъекта государственной власти и управления Великобритании, что обусловлено двумя основными факторами: а) тем, что Британское государство — конституционная монархия; б) что это унитарное государство. Высший субъект государственной власти формально представлен монархом (королем, королевой). Фактически же центр верховной власти и политического руководства — парламент, состоящий из двух палат: палаты общин и палаты лордов. Управление государством осуществляют от имени короля правительство его величества и премьер-министр. В Великобритании неукоснительно реализуется принцип верховенства парламента над правительством. Парламент выполняет законодательную функцию, осуществляет легитимацию политической системы и политики правительства, контроль над его деятельностью. Парламент — представитель нации. В британской политической культуре элитой и массами принято считать, что любые решения правительства не являются легитимными до тех пор, пока не одобрены парламентом. Представительность самого парламента обеспечивается выборной конкуренцией двух основных, попеременно сменяющихся у власти, партий: консервативной и лейбористской. Оппозиция в парламенте — формально признанный институт. Доминирование в его составе той или иной партии определяет политическое лицо и парламента, и правительства.
Особенностью политического режима Великобритании являются весьма широкие властные полномочия премьер-министра. На этот пост королевой назначается лидер партии, получившей на выборах абсолютное большинство мандатов в палате общин. Премьер-министр — главный советник монарха. Он осуществляет руководство правительством; определяет общую политическую стратегию его деятельности; назначает от имени монарха высших чиновников государства; представляет государство на международной арене; созывает и распускает парламент; выполняет ряд других прерогатив монарха [20].
В системе правящего субъекта Великобритании — система центральных органов управления, которой руководит кабинет министров (ядро правительства). Государственный аппарат включает ряд подразделений, занимающих неодинаковое место в его иерархической структуре: аппарат кабинета министров, в том числе постоянные комитеты по основным направлениям государственной политики; гражданская (государственная) служба — работники министерств и центральных ведомств, в состав которой входят ведущие административные и политические руководители; группы менеджеров, занимающихся обслуживанием министров и управлением министерствами; агентства, представляющие определенные услуги министрам и министерствам, и др. [21].
Унитарность Британского государства предопределила особое значение института местного самоуправления, дополняющего систему государственного управления. Структура госуправления и самоуправления в четырех историко-географических районах, входящих в состав государства (Англия, Уэльс, Шотландия, Северная Ирландия), неодинакова. Например, управление Шотландией курирует специальный министр по делам Шотландии, управлением Уэльса ведает министр по делам Уэльса. Отработана четкая структура местного самоуправления: разделение историко-географических районов на графства и городские округа (Англия, Уэльс, Северная Шотландия); на регионы, округа, островные территории и общины (Шотландия). Все административные территории управляются советами [22].
Модель английской демократической системы управления, как и американской, традиционно-либеральная, с присущим ей принципом политического плюрализма. Правящая элита формируется из родовых кланов, чиновничьей и финансовой олигархии, большого бизнеса, профсоюзных деятелей и профессиональных политиков. Участие широких масс народа в государственном управлении ограничивается избранием на законом установленный срок своих правителей различных уровней государственной системы.
Итак, сравнительный анализ систем государственной власти и управления позволяет сделать некоторые обобщающие выводы:
— система государственного управления во многом тождественна системе государственной власти; каков политический режим, такова в целом и система государственного управления: характер иерархической структуры управляющих субъектов, уровни субъектов, принимающих государственные решения, аппараты правящих субъектов, формы взаимоотношений управляющих с управляемыми;
— объектами государственного управления являются социальные группы и коллективы граждан, общественно значимые процессы жизнедеятельности населения, связанные с удовлетворением общегосударственных интересов: политические, социальные, финансово-экономические, международные отношения и др. Субъект государственного управления взаимодействует с субъектами частной деятельности на основе правовых норм, специфичных для каждого государства;
— демократический характер государственного управления не зависит непосредственно от формы государственного устройства (федеративного или унитарного);
— демократический тип государственного управления дополняется местным самоуправлением как необходимым элементом целостной системы управления обществом.
Литература
1. См.: Смелзер Н. Социология. - М., 1992. С. 525.
2. Там же.
3. Зеркин Д.П. Основы политологии. С. 95, 98.
4. Алехин А., Кармолицкий А., Козлов Ю. Административное право Российской Федерации. — М., 1997. С. 6, 14.
5. Венгеров А.Б. Теория государства и права. — М., 1998. С. 87.
6. Рац М. Власть в России и понятие власти // Власть. 1998. № 4. С. 42, 43.
7. Там же.
8. Поппер К. Открытое общество и его враги. Т. 1. — М., 1992. С. 152.
9. Там же. С. 158.
10. Василенко И. А. Административно-государственное управление в странах Запада: США, Великобритания, Франция, Германия. - М., 1998. С. 68-69; 2000. С. 68-71.
11. Государственное и административное устройство Германии. Серия Р. Т. 1.
12.Василенко И. Административно-государственное управление в странах Запада: США, Великобритания, Франция, Германия. — М., 1998. С. 19, 30, 31; М., 2000. С. 30-31.
13.Поппер К. Открытое общество и его враги. Т. 1. С. 148.
14.Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик. — М., 1977. Ст. 2, 3.
15.Государственное управление и государственная служба за рубежом. - СПб., 1998. С. 11.
16.Там же. С. 21.
17.Введение в политологию / Пер. с англ. — Нью-Джерси, 1988. С. 590.
18.Паренти М. Демократия для немногих. - М., 1990. С. 313.
19.Социально-политические науки. 1991. № 9. С. 62.
20.Государственное управление и государственная служба за рубежом. С. 54.
21.Там же. С. 69-70.
22.Там же. С. 43.
Глава 6. Объективные законы государственного управления
Государственное управление — это особый тип социального управления. Его существенное отличие от социального, как отмечалось выше, заключается в политическом характере. Это не исключает объективной стороны управленческой деятельности государственных институтов и управленческих отношений. Будучи субъективным фактором, т.е. воплощением коллективного разума и воли наиболее активной части общества, государственное управление характеризуется своими объективными законами и ими обусловленными и их отражающими принципами. В процессе управления субъективный фактор переплетается с объективным, внутренняя логика управления — с логикой функционирования и изменения управляемого объекта. Объективация субъекта и субъективация объекта — суть проявление этой диалектики.
Недостаточное понимание диалектической взаимосвязи субъективного и объективного факторов в управленческой деятельности приводит к односторонним подходам — от отождествления государственного управления с хозяйственно-экономическими и другими общественными процессами до его противопоставления им. Подобные крайности открывают шлюзы волюнтаризму или толкают на путь пассивного следования за естественным, спонтанным ходом вещей. В нем — оправдание, с одной стороны, «всемогущества» управляющего государственного субъекта, а с другой, — иждивенческой психологии надежд и упований на объективную природу потенциальных преимуществ «свободного» рынка и гражданского общества, в котором якобы господствует спонтанная саморегуляция.
Корректный анализ объективного фактора в государственном управлении важен с точки зрения выяснения специфики объективных законов, а также сущности и содержания принципов управления — проблемы достаточно сложной и мало разработанной, особенно что касается законов управления.
Проблема объективного фактора в государственном управлении имеет две стороны:
а) вопрос о влиянии на управление реального естественного процесса жизнедеятельности общества или его частей как объекта управления;
б) вопрос о зависимости управления как функции и института государства от его существенных признаков.
Государственное управление как целенаправленная деятельность, надстраивающаяся над деятельностью общества, в конечном счете определяется его состоянием, потребностями и интересами. Вместе с тем его объективные законы есть не что иное, как общие, информационные по природе, законы социального управления. В совокупности те и другие образуют первичный объективный фактор института государственного управления, его объективную основу. В то же время институт управления составляет часть государства и воплощает в себе объективные свойства и закономерности государства как относительно самостоятельной подсистемы социума. Отсюда социально-политическая сущность специфических законов управления, что не исключает их информационного аспекта. Объективные законы управления, в отличие от правовых законов, регулирующих общественные отношения, — это описываемые научной теорией существенные, необходимые и повторяющиеся общие формы взаимосвязей между управляющим субъектом и управляемым объектом, между управляющей системой и социальной средой, а также между государством в целом и его органами управления. Законы управления выражают необходимость и всеобщность тех сторон, моментов управленческой деятельности и отношений, которые исторически складываются, закрепляются и воспроизводятся в структуре и функциях государственного управления.
Закономерные (законом обусловленные) структурные и функциональные взаимосвязи не действуют с неизбежностью, а реализуются в виде тенденций, пробивающихся через множество конкретных явлений и обстоятельств, индивидуальных актов поведения и действий, подчиняющихся вероятностным «правилам игры». Реализация законов зависит от многих условий (переменных), но прежде всего от управляющего субъекта, его знаний, способностей, но также и от управляемых сообществ людей. Законы государственного управления в содержательном плане представляют аккумуляцию опыта политической руководящей и административно-государственной деятельности.
Государственная жизнь складывается из многообразных действий политических субъектов, административных кадров, учреждений и граждан. Из многочисленных видов деятельности и отношений историческим опытом выделяются общие, существенные, с необходимостью регулярно повторяющиеся при сходных обстоятельствах формы связей и способы действий. Именно те, которые соответствуют объективным потребностям государства. Несмотря на то, осознаются субъектом или не осознаются, они реально существуют в виде необходимости, объективной зависимости действий субъекта от определенных факторов и проявляются либо стихийно, в форме спонтанной саморегуляции, либо реализуются сознательно — в виде практического использования научного знания. Сформулированное теорией понятие того или иного закона служит основой объяснения и прогнозирования социально-политических и других общественных процессов. Критерий реальности объективных законов государственного управления — проявление в разнообразных действиях субъекта, в управленческих отношениях, регулярной повторяемости существенно значимых результатов управленческих действий.
Оппоненты изложенной материалистической концепции законов политической жизни и государственного управления обычно подчеркивают общеизвестный факт, что политические и в целом управленческие действия — это индивидуальные акты активности; они носят уникальный характер; несут на себе печать политических страстей, воль и желаний, профессионализма или, наоборот, дилетантизма и т.д. Однако достоинство теоретической науки в том и состоит, что она вскрывает за явлениями уникальными и действиями индивидуальными нечто единое, существенное и необходимое. Еще знаменитый французский политолог Монтескье в своем произведении «О духе законов» подметил трудности в осознании законов политики. Разумные существа, писал он, не следуют с тем же постоянством, как физический мир, присущим им неизменным законам. Причиной тому являются: ограниченность людей и связанная с нею способность заблуждаться, а также свойственное природе разумных существ стремление действовать по собственным побуждениям. И все же «в каждом изменении есть единообразие, и в каждом изменении — постоянство» [1].
Отправным пунктом в анализе объективных законов государственного управления можно было бы назвать общий закон социального управления — зависимости управляющего воздействия от состояния системы и внешней среды, но в его специфической форме выражения и интерпретации. А именно: закон зависимости управляющего воздействия субъекта на объект от состояния системы государственного управления и социальной среды.
Состояние системы государственного управления характеризуется прежде всего ее типологическими признаками: как системы авторитарной или демократической. Понятие «состояние» выражает также уровень развитости структур, функций, нормативно-правовой базы и других элементов системы.
Любая система государственного управления функционирует в определенной социальной среде, т.е. в рамках конкретного общества и присущих ему экономических отношений, сложившейся социальной структуры, культурной среды, социально-психологической атмосферы. Понятно, что эти факторы непосредственно или опосредованно оказывают воздействие на характер деятельности управляющей системы. Объективная по отношению к субъекту управления социальная среда не механически отражается в логике управленческого процесса, а трансформируется под воздействием накопленного управленческого опыта, объема и характера информации, которой располагают управленческие структуры.
Особенности субъектно-объектных отношений, выбор доминирующих моделей воздействия правящей власти на общество в значительной степени зависят от конкретно-исторического образа общества, данного государства, его исторических традиций.
Монархическому Российскому государству была присуща исторически неповторимая специфическая система государственного управления, сущность которой аккумулировалась в укоренявшемся веками определенном типе властвования. Правящая власть, независимо от того, кем она субъективно была представлена и в большей или меньшей мере использовала насилие по отношению к подвластным массам народа, играла не просто основную, ведущую, но «всеопределяющую роль» в управлении государством и обществом. Она, пишет историк профессор В.В. Журавлев, проявляла себя во многом как сила самодостаточная, оставаясь структурой, стоящей над обществом и ведущей с ним бесконечную борьбу... Верхи предпочитали не советоваться с обществом, не улавливать зреющие в его недрах настроения и потребности, но навязывать ему свои представления об общественном развитии, свои модели этого развития. Укоренившийся инстинкт власти навязывать обществу свою волю сочетался со стремлением «осчастливливать» общество, определить ему ту или иную «великую» цель, попутно требуя от народа ради ее достижения многочисленных жертв [2]. Навязывание подвластному обществу зачастую иррациональной «спасительной» цели порождало необходимость применения принуждения к тем политическим силам, которыми эта цель не воспринималась. Конфронтационный характер воздействия правящей власти на управляемых сложился в России под влиянием специфических экономических, социальных, природных, мировоззренческих и других условий.
Для России традиционно характерна чрезмерная персонифи-цированность государственной власти, проводимой власть имущими политиками, что связано с зависимостью принимаемых важнейших государственных решений от личных качеств политических лидеров.
Исторически сложившаяся специфика авторитарного характера воздействия властного управляющего субъекта на общество, как известно, не была разрушена российскими революциями. Его черты в несколько модифицированном виде сохранились до наших дней.
По мере исторического развития общества и государства политические и административные структуры усложняются, становятся разнообразней. Многократно увеличивается объем информации, перерабатываемой системами социального и государственного управления. По сравнению с первичным элементарным информационным обслуживанием функционирования производящей экономики (сбором сведений об участии в работах отдельных членов сообщества, ресурсах и пр.) объем информации, которым располагает современное государство, вырос на множество порядков.
Возрастающее многообразие общественной жизни и государственных институтов, их деятельности обусловило необходимость усиления регулирования и управления общественными процессами. В теории социального управления эта объективная необходимая тенденция рассматривается как общий закон социального управления. (Понятие «регулирование» обозначает необходимый признак управления.) В государственном управлении эффект действия данного закона, отмечает М.Н. Мысин, «наиболее наглядно проявляется в рационализации рычагов социального регулирования на основе высокоспециализированных методов, разрабатываемых наукой управления» [3]. Автор характеризует основные изменения, связанные с усилением регуляции в государственном управлении. Это усложнение и усиление взаимосвязи проблем и расширение круга факторов, которые необходимо учитывать при разборке решений; рост масштабов и сложности реализуемых проектов и программ, значимости и стоимости стратегического решения и соответственно цены возможных ошибок; возрастание размеров, сложности и стоимости самого управленческого аппарата и соответственно изменение характера управленческого процесса; возрастание требований к решению вопроса эффективности использования ресурсов, имеющихся в распоряжении органов власти и управления, поскольку они ограничены.
Теоретическое обоснование закона усиления регулирования и управления как общего для государственного управления можно углубить и расширить. Усложнение проблем, увеличение числа факторов, которые влияют на разработку и принятие стратегических и других государственных решений, происходит в силу объективной потребности совершенствования государственного управления как системно-интегрированной деятельности. Стимулируют процесс активизации этой деятельности растущие потребности решать усложняющиеся задачи обеспечения целостности общества и совершенствования его политической формы организации, необходимость регулирования и разрешения социальных конфликтов — основного условия сохранения стабильности и единства общественного организма. Проблема целостности в современных условиях актуальна для всех стран, и в особенности для России, оказавшейся в системном кризисе, грозящем разрушить почти тысячелетнее государственное образование. В числе важнейших факторов, определяющих направленность и содержание государственного управления:
— повышение его роли в жизни общества,
— расширение круга общественно-жизненных интересов, без реализации которых Российскому государству не выжить, а целостность общества не сохранить.
Имеются в виду как интересы личности, так и интересы национально-государственные: реальное обеспечение конституционных прав и свобод человека; обеспечение безопасности личности и самого государства; достижение соответствующего цивилизационным, международным стандартам уровня материального и культурного благосостояния народа; сохранение жизнеобеспечивающей экологической среды и т.д. Как никогда, возросло значение прогнозирования последствий не только принимаемых решений, но и применения новейших технологий управленческих действий. Информационные технологии — обоюдоостры. Они могут служить и служат в руках агрессивного субъекта сверхмощным оружием разрушения социальных систем и цивилизаций.
Особый вопрос об увеличении стоимости управления: профессионального аппарата, разрабатываемых проектов и программ. Постоянные разговоры о дороговизне управленческого аппарата и его деятельности могут быть признаны обоснованными только по отношению к чрезмерно раздутому бюрократическому аппарату с низкой эффективностью его работы. Нет универсальных количественных параметров государственного аппарата, но есть общепризнанные критерии качества его организации и деятельности: государственная и общественная эффективность. Этому вопросу будет посвящена одна из глав настоящей работы.
Проблема закономерности усиления государственного управления и его роли в обществе для отечественной политической мысли не нова. Она ставилась и многократно обсуждалась советскими авторами. Однако анализ ее сводился к возрастанию роли политического партийного руководства, что, конечно, сужало поле исследования, а главное, ориентировало научную аргументацию в русло обслуживания авторитарного политизированного партийно-государственного управления.
Логика анализа объективной зависимости управленческого процесса от состояния социальной среды, в том числе от структуры общественной системы, последовательная реализация информационного подхода подводит к выявлению специфических структурно-функциональных законов. В теории социального управления сформулирован общий закон «необходимого разнообразия».
В некоторых источниках говорится о принципе разнообразия. Им определяются объективные возможности (границы) управляющего воздействия на общество, исторической тенденцией которого является возрастающее многообразие общественной жизни. Понятие «разнообразие» — обозначение информации, как и понятие «ограниченное разнообразие». Разнообразие также и объективно существующие различия между предметами.
Действие данного закона в государственном управлении проявляется в объективных требованиях двоякого рода. Первое — это необходимость сочетания управляющего воздействия на общество с его самоорганизацией, с учетом стихийной саморегуляции социальной системы. Необходимого потому, что искусственно создаваемая система, каковой является государственная, не может охватить своим регулирующим воздействием необъятное многообразие естественной системы—социума. Объект государственного управления всегда очерчен ограниченным разнообразием (информационное содержание), доступным для рационального преобразования. Явления стихийной саморегуляции не бывают однозначными по отношению к целям управляющего субъекта: они могут в той или иной мере соответствовать целям или, наоборот, препятствовать их реализации. Таковые, в частности, возникают под влиянием ошибок в государственной политике, когда направленность деятельности органов власти расходится с целями и интересами управляемых. Последние в сложившейся ситуации прибегают либо к стихийному сопротивлению принятым решениям, либо к «теневой адаптации» к возникшей ситуации. Например, в виде «теневой экономики». Так что, подчеркивая необходимость сочетания управления с саморегуляцией, нужно иметь в виду позитивные ее проявления, т.е. формирующиеся в поле целей управляющего субъекта.
Второе. Рассматриваемый закон обычно трактуется в смысле теоретического обоснования иерархической структуры управления [4]. Ограниченность объема информации (разнообразия), перерабатываемой любым субъектом, исключает возможность сосредоточить все полномочия по управлению обществом в руках одного централизованного органа. Поэтому возникает необходимость в передаче некоторых полномочий от центрального органа органам нижестоящих уровней, т.е. в построении иерархической структуры управления. Информационная перегрузка, равно как и дефицит информации, снижает способность управляющего субъекта выполнять свою функцию. Возникает потребность в специфических для государства организационных формах построения органов управления: по вертикали — высший, региональный, местный уровни; по горизонтали — разделение видов управленческой деятельности и центров принятия решений соответственно региональным образованиям.
Эти формы организации управления, выработанные политической практикой, детерминированы не только потребностью обеспечить способность управляющего субъекта справляться с переработкой актуальной информации. Они возникают и утверждаются из необходимости, во-первых, блокировать концентрацию властных и управленческих полномочий в руках отдельных лиц и группировок; во-вторых, обеспечить участие в управлении государством народных масс, их контроль за деятельностью государственного субъекта, иначе говоря, создать механизм обратной связи. На языке политической теории — это демократические формы организации власти и управления.
Сложившееся в истории государственного строительства разделение ветвей власти (законодательной, исполнительной и судебной) и соответствующих им управляющих субъектов (центров управления) стало всеобщей формой функционирования государственной власти, воспроизводящейся в различных модификациях в любом демократическом государстве, т.е. объективным законом. Это — закон рассредоточения центров власти и управления.
Он означает: 1) необходимость формального и фактического расчленения (разделения) функций государственной власти в управлении по горизонтали и вертикали на относительно самостоятельные ветви и уровни власти, которые должны осуществляться различными, независимыми друг от друга органами (институтами). Причем одна из ветвей власти, непосредственно представляющая сообщество избирателей, организованная как орган коллективный, может контролировать другие ветви. Власти различных уровней: центральная федеральная, региональная, местная — разграничиваются по предметам ведения и полномочиям; 2) требование взаимного сдерживания властей, взаимного ограничения и взаимного контроля, в том числе ограничения представительной (законодательной) власти, контрольной функции сферы ее действия. Иными словами, осуществление системы «сдержек» и «противовесов», закрепленной впервые в конституции США. Каждая ветвь власти должна иметь пределы действия своих полномочий, свою сферу действия; 3) необходимость равновесия ветвей власти, чтобы ни одна из них не могла во всех отношениях доминировать над другими и быть свободной от ответственности перед законом. Преимущества исполнительной власти в административно-государственном управлении должны ограничиваться контрольной и законодательной функциями власти представительной и действием власти судебной.
Разделение ветвей власти и центров управления не исключает единства государственной власти как таковой и необходимости одного верховного субъекта управления. Такая система дополняется иерархической структурой властных управленческих органов и отношений.
Иерархия, как известно, означает расположение институтов власти и управления по вертикали: в порядке их подчиненности снизу доверху, от низшего уровня к высшему. Для государственной системы власти и управления иерархическая структура организации является объективно необходимой, всеобщей формой ее бытия и функционирования. Государственное управление, как уже говорилось, со времени его исторического возникновения неразрывно связано с политической и административной властью. Отношение «управляющий — управляемый» есть одновременно и отношение «властвующий (подчиняющий) — подвластный (подчиненный)». Без власти не существует государственного управления. Это — объективная взаимосвязь, не зависящая от воли какого-либо властителя или управляющего, если бы даже он вознамерился выполнять свою государственную функцию, не используя рычагов власти в различных ее разновидностях. Иерархическая структура организации управления в каждой конкретной политической системе приобретает свою, соответствующую ей и характеру государственного устройства общества, модификацию.
Структура организации власти и государственного управления исторически закрепилась в таких всеобщих формах, как централизация и децентрализация. Взаимосвязь (единство) данных противоположных процессов (отношений) также характеризуется признаками объективного закона. Эти формы процессов выражают объективно необходимые стороны организации системы власти и управления; они воспроизводятся в государственном строительстве различных стран на разных исторических этапах развития. Например, децентрализация государственной власти и управления в США была заложена в федеральной форме устройства государства, узаконенной Конституцией 1787 г. Во Франции же вплоть до 80-х гг. XX столетия существовала жесткая централизация, унаследованная от Наполеона. Только социалисты, будучи у власти, в 1981 г. открыли путь для осуществления децентрализации, сделав тем самым новый шаг на пути демократического преобразования управления обществом. В бывшем Советском Союзе жесткий централизм пронизывал всю политическую систему, тогда как формально государство считалось федеративным.
Процессы централизации и децентрализации по содержанию представляют концентрацию и деконцентрацию власти и управленческой деятельности. Они так или иначе становятся реальностью потому, что необходимы, являясь формой выражения общесоциального закона усиления регулирования. И действительно, централизация есть не что иное, как интенсификация управляющего воздействия на управляемый объект по вертикали путем концентрации полномочий и ресурсов в руках единого центрального органа. Децентрализация же, напротив, — передача полномочий сверху вниз и создание относительно самостоятельных организаций, самообеспечивающихся необходимой информацией для реализации полномочий, переданных им вышестоящим органом. Тот и другой противоположные процессы объективно взаимосвязаны, поскольку:
а) составляют две стороны общего процесса функционирования государственных институтов;
б) подчинены реализации потребности усиления управляющего воздействия государства на общество, обеспечения его целостности, стабильности, и вместе с тем прогрессивного развития.
Если централизация служит сосредоточению имеющихся у государства ресурсов управления (всегда ограниченных по сравнению с потребностью), то децентрализация направлена на поиск, создание и использование резервных, потенциальных ресурсов. В частности, организационных: формирование территориальных объединений административно-государственных органов для решения региональных проблем; создание проблемно-целевых групп; проведение тематических исследований по вопросам, связанным с разработкой новых технологий управления и т.д.
Политическая история выработала и такую всеобщую и необходимую форму организации государственного управления, как его системный характер. Системная форма организации — объективный закон государственного управления. Выше отмечалось, что государственное управление функционирует и решает объективно стоящие перед ним задачи только в виде единого целого, взаимосвязанного образования его элементов и процессов. Системность — необходимая и существенная форма бытия государственного управления как института. Отсюда и системный подход как методологический принцип объяснения данного феномена и практического его осуществления. Комплекс индивидуальных и коллективных управленческих действий только тогда становится системой, когда субъектом реализуется данный принцип.
Закон системности государственного управления находит выражение в существенных взаимосвязях элементов и процессов управления (закономерностях). К таковым можно отнести:
—единство основных функций управления (А.И. Радченко): целеполагания, прогнозирования и планирования, информирования, организации, координации и регулирования, активизации, контроля, обобщения и оценки результатов — на всех уровнях государственного управления. Единство функций образует общий процесс управления, слагающийся из последовательно осуществляемых этапов (фаз), содержание которых составляет реализация одной или одновременно нескольких функций (например, планирования и информирования). Внутренняя взаимосвязь функций обусловлена самой природой управления как рациональной деятельности, а также системообразующей политической и нормативно-ценностной основой государственного управления;
—единство уровней государственного управления: центрального (федерального), регионального, местного; взаимодополнение государственного управления и самоуправления; взаимодействие в едином процессе центров-субъектов управления, разделенных как по вертикали, так и по горизонтали;
—единство общей и частных систем государственного управления, поскольку последние строятся на базе общегосударственной и являются конкретной реализацией ее целей в отдельных сферах и отраслях жизнедеятельности людей.
Отмеченные существенные взаимосвязи функций, структур, уровней и центров государственного управления характеризуют целостность системы в идеале, т.е. какой по определению она должна быть. Реальное же состояние представляет собою эволюцию системы в направлении достижения полноты целостности, реализации ее сущности, заложенных в системе объективных возможностей. Движение системы к целостности состоит в том, чтобы: а) охватить своим воздействием все социально значимые процессы государственной жизни; б) обеспечить оптимально возможную полноту реализации управленческих функций в их взаимосвязи, а также единую направленность в управляющей деятельности субъектов различных ветвей и центров власти; в) устранять противоречивость элементов системы, препятствующую нормальному ее функционированию; г) создавать недостающие органы, институты и нормы. В совокупности эти процессы составляют содержание саморазвития системы государственного управления — ее общего объективного закона.
По природе своей любая система социального управления, в том числе государственного, несет в себе объективно заложенную способность реагировать на изменение социальной среды (общества, государства) и на изменение своего внутреннего состояния. Потенциальная способность выражается в адаптации системы и в ее саморазвитии, что является необходимым условием не только бытия и стабильности системы, но и эффективной реализации функций. Саморазвитие — объективно возможный способ существования системы государственного управления. Процесс саморазвития не исчерпывается качественными изменениями информационной базы управления. Основное — это преобразование социально-политической природы и главных компонентов системы государственного управления, что связано с изменением во властных отношениях. Отсюда конфликтный характер процесса — специфическая черта закона.
В рамках одной и той же политической системы и еще более при переходе к новой претерпевают качественные преобразования субъекты управления, в частности расширяется участие в управлении народных слоев. К управлению государственными делами приходят наиболее подготовленные профессионально кадры политиков и администраторов. Обогащаются функции управления, совершенствуются организационные методы и стили управляющей деятельности. Перестраиваются государственные структуры власти и управления соответственно потребностям политической и общественной рациональности. Складываются оптимальные схемы распределения полномочий между центральными, региональными и местными органами.
Политическая история нашей страны в XX в. изобилует многими фактами, подтверждающими реальность действия (в позитивном и негативном плане) закона саморазвития системы государственного управления. Сложившийся веками тип властвования и правления в царской России, сохранявший столетиями свою качественную определенность, не реагировавший на происходившие изменения в государстве и связанные с ними потребности и интересы даже господствующих классов, элитных слоев общества, в конечном счете привел к краху всей государственной машины. Создание новой системы власти и государственного управления в результате Октябрьской революции, пусть даже авторитарной, но вначале весьма динамичной, обеспечило самосохранение единого государства, его управляемость и обновление. Однако к 1980-м гг. авторитарная система власти и управления исчерпала свою способность рационального воздействия на общество и превратилась в совокупность закостеневших институтов, во многом блокировавших собственное взаимодействие, препятствовавших разрешению накопившихся проблем. Возникшая на месте советской системы нынешняя российская система, как уже отмечалась, пока не обнаружила способность к динамизму. Она сконструирована в некоторых узлах из взаимоисключающих элементов, оставшихся от советской системы и привнесенных извне западных моделей властно-управленческих отношений. Проблема достижения соответствия системы государственного управления современному состоянию Российского государства и общества — одна из актуальных.
Закон развития государственного управления находит свое проявление и обеспечивается действием других рассмотренных нами законов: зависимости управляющего воздействия субъекта на объект от состояния системы государственного управления и социальной среды, усиления регулирования и управления общественными процессами, расчленения центров власти и управления, единства централизации и децентрализации последних.
Охарактеризованные объективные законы государственного управления проявляются специфически в различных политических системах. Так, в президентских республиках (в частности, в США) разделение властей и соответственно центров принятия государственных решений предполагает их баланс, обеспечиваемый системой «сдержек» и «противовесов». Соотношение централизации и децентрализации управления регулируется федеративным устройством государства. В парламентских республиках доминируют законодательные органы власти и управления над исполнительными. В унитарных государствах, в отличие от федераций, централизация управления превалирует над децентрализацией.
Изложенный анализ законов государственного управления в известной мере дискуссионен. Это и понятно, ибо он затрагивает мало разработанную проблему. Достаточно сказать, что в известных нам учебниках и учебных пособиях по теории государственного управления, изданных в последние годы, данная проблема по существу не рассматривается. Возможная дискуссия будет стимулировать развитие науки управления по одной из ее кардинальных проблем.
Литература
1.Монтескье Ш. Избр. произведения. - М., 1995. С. 164.
2.Мысин Н. Теория социального управления. С. 146.
3.Там же. С. 125.
4.Атаманчук Г.В. Теория государственного управления: Курс лекций. — М.: Юрид. лит-ра, 1997. С. 187;Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. Курс лекций. Изд. 2-е, до-полн. — М.: Омега-Л., 2004. С. 167-168;
Глава 7. Принципы государственного управления
1. Общесистемные методологические принципы государственного управления
Принципами в научной теории называют основные положения, с помощью которых выстраивается теория и объясняются анализируемые факты. Таковы, скажем, философские принципы. Теоретико-познавательный и методологический аспекты — неотъемлемые признаки принципов государственного управления как научных положений. В системе государственного управления принципы выступают в своей главной ипостаси — в качестве основных и исходных положений управленческой деятельности, выработанных наукой и сформулированных государством. Они являются надежным средством организации и регулирования целенаправленного процесса воздействия на общество, а также одновременно и собственно функционирования управляющего субъекта.
Принципы объективны в своей основе и по содержанию постольку, поскольку они выражают научное знание об объективных законах и функциях управления, отвечают критериям научной истины. Однако объективность принципов в указанном смысле нельзя отождествлять с объективно существующими общественными процессами и присущими им объективными законами. Принципы государственного управления независимы от сознания и воли субъекта только в смысле адекватного отражения объективных законов, потребностей государства и общества. Познаются и формулируются они людьми с различными субъективными способностями и возможностями.
Принципы государственного управления суть субъективное по форме выражение требований объективных законов и специфики общественных политических отношений. Иначе чем же объяснить тот факт, что признаваемые в одном типе государства (скажем, социалистическом) нормативные требования в качестве основы государственного строительства и управления в другом (либерально-демократическом) решительно отвергаются. Конечно же, не только иной сущностью политических систем, хотя это главное. Неолиберальное демократическое сознание властей предержащих — существенный фактор, под влиянием которого осмысливаются объективные реалии и закономерности государства и общества.
Было бы ошибочно интерпретировать положение об объективном содержании принципов управления так, что будто бы объективность гарантирует адекватное их осуществление любым субъектом и при любых условиях.
В советской политической литературе подобный апологетический подход был стереотипным при анализе политики правящих партийно-государственных институтов. Его авторами за сущее выдавалось должное, за действительное — нормативное, а скорее желаемое. И хотя для некоторых авторов (к их числу мы относим и себя) нормативный подход чаще всего был основанием критической оценки существующей политической практики и выявления ее противоречий, он все же мало способствовал объективному рассмотрению проблем.
Не нормативность, а прежде всего действительность должна быть предметом анализа реализации законов и принципов управления в практической деятельности государственных органов. Нельзя не подчеркнуть, что сознательная реализация научных законов и принципов — лишь одна из возможностей, хотя и реальных, в практике управляющего субъекта. Определяя государственное управление, включая политическое руководство, как деятельность целенаправленную, не следует считать, что любые ее виды и формы строятся целиком и полностью по строгим научным проектам. Цель, замысел — идеальный образ будущего результата, но не строго выверенная во всех аспектах какая-то научная формула.
Цель, замысел субъекта формулируются в результате синтеза элементов научных знаний и идеологических представлений, здравого смысла и практического опыта, итога повседневных наблюдений и интуиции лидеров. Политика, государственное управление — не только (а во многих случаях не столько) наука, но также искусство. В последнем, как известно, доминирует воображение, далеко не всегда адекватно отражающее реальность. К сказанному нужно добавить, что научные знания о законах и принципах управления — не абсолютная, а относительная истина. Мы многого еще не знаем о современных политических процессах и об объективных закономерностях государственного управления, особенно в России. Тем более, что многие теоретики и политики вообще отрицают таковые, а за принципы принимают любые целесообразные в данной конкретной ситуации формы и нормы управления. Не любое теоретическое положение, именуемое в литературе «принципом государственного управления», фактически им является.
Существенной особенностью принципов государственного управления являются выраженность и закрепленность их в большинстве своем в правовых нормах. Это положение подчеркивается Г.В. Атаманчуком. Правовое закрепление принципов, бесспорно, «вносит большую конкретность и устойчивость в управленческие отношения» [1]. Мы хотели бы обратить внимание читателя на уточнение: «в большинстве своем». За ним кроется вопрос, требующий дальнейшего анализа практических форм функционирования принципов управления. Их можно сгруппировать так:
1)традиции, складывающиеся в государственном управлении;
2)политические требования и установки, зафиксированные в программах и других официальных документах государства;
3)конституционные установления и другие правовые нормы, закрепляющие формальные образцы управленческих отношений и действий субъекта и объекта управления;
4)научные рекомендации практике управления;
5)политические, идеологические и нравственные ценности как форма выражения и средство воздействия на управляющих и управляемых.
Ценностный аспект может приобретать любой из указанных видов практического функционирования принципов государственного управления, что зависит от значимости принципа для системы управления и его общественного признания. Заметим, что некоторые принципы закрепляются одновременно в ряде форм: в виде политических и правовых норм, традиций и идеологических ценностей. К числу таковых относится принцип плюрализма. Он фигурирует во многих ипостасях: как демократический, т.е. политический, принцип выбора целей и формирования государственных органов власти и управления; как принцип планирования; как правовая норма при организации демократических выборов; как политическая и идеологическая ценность — один из регуляторов поведения управляющих и управляемых и т.д. Известный советский принцип демократического централизма был закреплен политически (в Программе и Уставе правящей партии) и конституционно — в качестве основного принципа государственного управления обществом. Некоторые либерально-демократические принципы управления, например, плюрализм, конкуренция, закреплены юридически и в форме традиций. Кроме того, они в числе политических, идеологических и нравственных ценностей государства и общества.
В научной литературе описываются многие принципы государственного управления и их типологии. Однозначного решения этого вопроса нет. В данной работе в качестве основания типологии принципов государственного управления признаются: объективные законы и функции социального и государственного управления, специфика государства как политически организованного общества. Принципы, как отмечалось, суть субъективные формы выражения объективных законов управления, а также потребностей развития государства и общества, состояния его политико-правовой культуры.
В соответствии с названным основанием выделим группы общесистемных принципов государственного управления:
1)общеметодологические принципы, сформулированные на основе познания общих законов социального и государственного управления, закрепленные в политических и правовых нормах, или применяемые в качестве научно-практических рекомендаций; они определяют содержание государственного управления;
2)организационные системно-структурно-функциональные принципы, закрепленные нормативно;
3)принципы разработки, принятия и исполнения решений, в большинстве своем предусмотренные законодательством;
4)принципы управления отдельными сферами общественной жизни: политической, экономической, социальной, культурной.
Назовем их специфическими. Так же, как общесистемные, они в большинстве своем прописаны юридически или же отражены в определенных политических документах и административных инструкциях.
Государственное управление — сложный политико-правовой организм со многими относительно самостоятельными органами и службами, регулируемыми частными принципами. Такова, например, государственная служба и ее принципы2[2].
Общеметодологические принципы государственного управления
Реализация их служит условием сохранения качественной определенности общества как единого организма и целенаправленного его изменения. Этому критерию соответствует определяющая роль политики в государственном управлении. Приоритет государственной политики является общеметодологическим принципом государственного управления.
Политика — широкое понятие, характеризующее особую форму деятельности и взаимоотношений больших социальных групп и представляющих их государственных институтов и партий, содержание которой составляет руководство общественными делами, регулирование общественных отношений, разрешений противоречий и конфликтов в интересах господствующих классов или большинства общества. В данном контексте понятие политики означает направление деятельности государства, определение принципов, ее целей, задач, основных форм и методов управляющей деятельности. Политика служит формой обобщения и выражения интересов и воли представителей отдельных социальных групп или общества в целом. Она всегда конкретна. Политика ориентирует систему государственного управления на решение общегосударственных проблем, ставших актуальными в данной общественно-исторической ситуации для функционирования и развития всего общества или каких-то его отдельных сфер.
Разрабатываемый высшими органами власти и управления политический курс (политическая стратегия) выступает важнейшим фактором согласования деятельности субъектов управления всех уровней, определяет конкретные объекты управления, актуализирует определенные функции управляющей системы и оптимальные «рамочные» условия их реализации, акцентирует те или иные взаимосвязи системы с управляемыми. Формулируемые центральными органами государства экономическая, социальная, культурная, научно-техническая и другие виды политики служат основой административно-государственного управления во всех его аспектах. Именно основой, ориентиром, отправным пунктом, но не более. Политика не подменяет содержание административного управления, а лишь направляет ее действие в русло удовлетворения жизненно важных общественных потребностей и интересов.
Доказательством того, что приоритет политики в государственном управлении является его принципом, служит международная практика. Даже в США, где на протяжении всего XX в., вплоть до 90-х гг., в политической теории и практике общественного управления доминировала «политико-административная дихотомия», т.е. точка зрения, противопоставляющая политику и административное управление и выдвигающая на первый план политически нейтральную систему. Президент и его администрация, а соответственно и администрации штатов во главу угла своей деятельности полагают политические ориентиры, политическую стратегию, формулируемую и излагаемую в ежегодных президентских посланиях конгрессу США. Белым домом инициируются актуализация проблем в экономической и социальной сфере. Например, одна из них — проблема повышения эффективности государственного управления государственным сектором экономики. Государство, кстати говоря, стало важным элементом в экономике как благодаря своей экономической политике, так и производству как таковому [2]. При Президенте создано и функционирует Управление по разработке политики.
Политические ориентиры государственного управления в России также определяются ежегодными посланиями Президента РФ Федеративному Собранию. Так, послание 1998 г. было озаглавлено «Общими усилиями — к подъему России». В нем — формулировка основной политической цели деятельности высших органов власти и управления. В разделах послания «Выравнивание экономических условий», «Эффективность власти — резерв подъема», «Необходимость административной реформы», «Усиление ответственности региональной и местной власти» и других излагаются политические задачи, выполнение которых должно было составить содержание деятельности системы государственного управления в 1998 г.
Мартовское (1999) Послание Президента РФ «Россия на рубеже эпох» определило основные задачи деятельности высших органов власти и управления по выходу государства из глубокого системного кризиса, катастрофически обострившегося в августе 1998 г. В Послании утверждается, что взятый в 1991 г. «курс на коренное реформирование российской экономики был и остается правильным. Однако при сохранении общего стратегического направления необходима корректировка методов проведения экономической реформы, учет и исправление допущенных ошибок» [3].
В Послании Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию РФ «России надо быть сильной и конкурентоспособной» (2002) отмечается: «Наши цели неизменны — демократическое развитие России, становление цивилизованного рынка и правового государства. И самое главное - повышение уровня жизни нашего народа» [4]. Определяя ориентиры государственного управления, В.В. Путин в данном Послании Федеральному Собранию акцентировал внимание на том, что «основное сейчас: это — создание условий, при которых граждане России могут зарабатывать деньги... и — с выгодой для себя — вкладывать в экономику своей собственной страны.
Но для этого необходимо устранить то, что все еще мешает людям жить и работать. И прежде всего — придется существенно изменить саму систему работы государственных институтов.
Сегодня колоссальные возможности страны блокируются громоздким, неповоротливым, неэффективным государственным аппаратом» [5].
При этом главная проблема — не в количестве бюрократических структур, а в том, что их работа плохо организована, нынешние функции государственного аппарата не приспособлены для решения стратегических задач, знание чиновниками современной науки управления — это все еще большая редкость. Именно в связи с этим ставятся и решаются в стране задачи осуществления административной реформы, реформ в области государственной службы и местного самоуправления.
Приоритеты государственной политики как общеметодологический принцип государственного управления четко просматриваются и в Послании Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию, с которым он выступил в 2003 г. В нем, в частности, говорится, что все наши решения, все наши действия надо «подчинить тому, чтобы уже в обозримом будущем Россия прочно заняла место среди действительно сильных, экономически передовых и влиятельных государств мира.
Это — качественно новая задача. Качественно новая ступень для страны...
Россия должна быть и будет страной с развитым гражданским обществом и устойчивой демократией. В ней в полной мере будут обеспечены права человека, гражданские и политические свободы.
Россия должна быть и будет страной с конкурентоспособной рыночной экономикой. Страной, где права собственности надежно защищены, а экономические свободы позволяют людям честно работать, зарабатывать. Зарабатывать без страха и ограничений.
Россия будет сильной страной — с современными, хорошо оснащенными и мобильными вооруженными силами.
Все это должно создать достойные условия для жизни людей. Позволит России на равных находиться в сообществе самых развитых государств.
И такой страной люди смогут не просто гордиться. Они будут приумножать ее богатство. Будут помнить и уважать нашу великую историю.
В этом — наша с вами стратегическая цель.
Но чтобы этого добиться - необходима консолидация. Мобилизация интеллектуальных сил. Соединенные усилия органов власти, гражданского общества, всех людей в стране.
На основе понятных и четких целей мы должны добиться консолидации для решения наших самых главных общенациональных проблем» [6].
Формулированию, уточнению и конкретизации приоритетов государственной политики в изменяющихся условиях большое внимание уделено и в Послании Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию, с которым он выступил 26 мая 2004 г.
«Наши цели, - говорится в нем, - абсолютно ясны. Это -высокий уровень жизни в стране, жизни — безопасной, свободной и комфортной. Это — зрелая демократия и развитое гражданское общество. Это - укрепление позиций России в мире. А главное, повторю, значимый рост благосостояния граждан.
Сегодня мы лучше знаем собственные возможности. ...И активно модернизируем государство, добиваясь соответствия его функций современному этапу развития России. Этапу, обеспечивающему существенно более высокий уровень жизни».
Сегодня, чтобы в непростых условиях глобальной конкуренции занимать ведущие позиции, Россия должна расти быстрее, чем остальной мир.
И в Послании 2004 г. ставится задача опережать другие страны и в темпах роста, и в качестве товаров и услуг, и в уровне образования, науки, культуры. «Это вопрос нашего экономического выживания. Вопрос достойного места России в изменившихся международных условиях, — отмечает В.В. Путин. — ...Это крайне трудная задача. Но решить ее мы можем. ...Только от нас сегодня зависит, сможем ли мы стать обществом действительно свободных людей. Свободных и экономически, и политически. Только от нас зависит успех решения первоочередных общенациональных задач. Задач, которые хорошо известны. Это удвоение за десятилетие валового внутреннего продукта, уменьшение бедности, рост благосостояния людей и модернизация армии» [7].
Итак, приоритет политики в государственном управлении - тот интегрирующий фактор, который цементирует воедино элементы управляющей деятельности и управленческих отношений, придает им государственно-значимый смысл, определяет рациональное целеполагание и целедостижение.
Система управления — информационная система. Ее деятельность прямо зависит от того, какова информация, используемая управляющим субъектом. Управлять государством и обществом — значит действовать, обладая достоверной, объективной информацией. Принцип объективности — один из основополагающих в системе государственного управления. Он — критерий научности всех других принципов. Требование объективности, как принцип, означает необходимость адекватного отражения (достоверной информации) субъектом управления реального состояния общества и государства, актуальных общественных потребностей и интересов, возможностей их удовлетворения и действия в соответствии с полученной информацией.
Объективность в управлении предполагает осознание и объяснение противоречий и конфликтов между группами интересов: социальными классами и слоями, между интересами государства и коммерческими интересами экономических и других юридических субъектов хозяйствования, между властью и населением, и т.д. Анализ существующих противоречий и конфликтов — путь познания проблем, решаемых в процессе управления. Конфликты выявляют альтернативные тенденции в общественном развитии и силы, стоящие за ними, стимулируют поиск новых форм и методов деятельности, реализация которых обеспечит стабильность общества. На основе достоверной и исчерпывающей информации субъект сможет сформулировать достижимые проекты, находить и использовать нужные ресурсы и эффективные средства для осуществления выбранных целей и намеченных проектов, добиваться того, чтобы управляющая деятельность государственного субъекта превращалась в основной элемент деятельности управляемого сообщества людей.
Следовать принципу объективности — значит исходить из действительного положения вещей, а не из умозрительных предположений; постоянно анализировать управленческие действия, принимаемые решения на предмет их соответствия задачам государства, закону и интересам народа. Информационно-аналитическая деятельность — неотъемлемая сторона современного управления.
Если информационный процесс составляет важнейшую сторону управления и от качества информации зависит его действенность, то корректно к числу общеметодологических принципов государственного управления отнести общие принципы социального управления, выражающие требования информационных законов. В первую очередь — универсальный принцип экономии энтропии. Понятие энтропии в теории социального управления обозначает меру неопределенности ситуации. Принцип экономии энтропии характеризует условие упорядоченности системы [8]. Чем меньше величина энтропии, тем выше упорядоченность общественной системы. Реализация данного принципа обеспечивает стабильное состояние последней. В соответствии с этим принципом управляющий субъект выбирает тот вид и метод действия, который может привести к наименьшим разрушениям управляемого объекта и необратимым потерям энергии и ресурсов, т.е. к минимуму количества энтропии, который обеспечит эффективное использование экономических, материально-технических ресурсов, а также современных технологий. Об уровне государственного управления судят по степени продуктивного использования как имеющихся ресурсов, так и вовлечения в процесс конструктивно-созидательной социальной деятельности новых, открываемых наукой и практикой.
Стабильное состояние управляемой общественной системы — одна из целей управления в «древе целей». Обеспечение устойчивого изменения системы, перехода ее в новое состояние — основная цель государственного субъекта. Ее реализации служит другой принцип — наименьшего действия. Суть его — в требовании отбирать из возможного арсенала управленческих воздействий те, в результате которых наблюдается минимальная величина энтропии. Иными словами, переход управляемого объекта в планируемое состояние осуществляется с наименьшими разрушениями. Это исключает резкие, одноразовые скачки, объективно неоправданные революционные перевороты и предполагает выбор промежуточных этапов, составляющих постепенный, эволюционный процесс развития.
Постепенный переход системы в новое качественное состояние нейтрализует возникновение дисфункциональных связей, способствует сохранению и согласованию функций. Заметим, что идея постепенного, эволюционного развития общества пришла в теорию социального управления из философии. В истории философской мысли издавна конкурировали эволюционистская и революционная концепции. Реальная история человечества подтвердила относительную истинность той и другой идеи. Однако оказалось, что постреволюционный период в большинстве цивилизованных стран — это эволюционный процесс. Управление им осуществляется в соответствии с принципом наименьшего действия, с ориентацией правящих режимов на эволюционное реформирование общественной жизни. Концепция устойчивого социально-экономического развития — доминирующая в политике и политическом сознании правящих кругов в современных передовых странах. Исключением стала российская политическая элита.
Несмотря на то, что политическая история России показала несостоятельность практики глобальных разрушительных переворотов в жизни государства и народа, «архитекторы» перестройки (вторая половина 80-х гг.) и лидеры неолиберального переворота (август 1991 — октябрь 1993 гг.), к несчастью для народов нашей страны, не извлекли должных уроков из драматической истории российского государственного управления. Курс перестроечных и неолиберальных реформ строился вопреки научно выверенным и подтвержденным европейской цивилизацией принципам экономии энтропии, наименьшего действия и др. Произошел не постепенный переход к новой политической и экономическим системам, а всеобщий разрушительный процесс, уничтоживший вместе с советской системой государственного управления многие системообразующие элементы государства и общества, например, вертикаль государственной власти, необходимую меру государственного централизма в управлении. Государство лишилось некоторых своих функций, оказалась подорванной фундаментальная функция управления.
Государственное управление — целенаправленная деятельность, ее универсальным принципом является высшая целесообразность действия управляющего субъекта. Этот принцип органически связан с принципами экономии энтропии и наименьшего действия, представляет их логическое продолжение, дополнение и конкретизацию. В контекст понятий «упорядоченность системы», «действие с наименьшими разрушениями» включается понятие «целесообразность», придающее им субъективную человеческую направленность. Высшая целесообразность означает также рациональное использование времени — одного из основных объективных факторов общественной жизни. Не будет преувеличением квалифицировать данное требование как общий принцип управленческой деятельности. При этом следует отметить многообразие и даже альтернативность моделей его конкретизации. Вот некоторые из них: принцип экономии времени положен в основу определения производительности труда; «выбор времени», согласно теории управления, является ключевым моментом принятия решения; «метод проволочек» (затягивание времени) — одно из правил успешного действия (в праксиологии). Второй и третий варианты интерпретации принципа рационального использования времени являются конкретизацией ситуационного подхода в управлении. Выбор соответствующего места и времени, а в более общей форме — совокупности обстоятельств, благоприятных для принятия и реализации решений, — основной принцип менеджмента. В политическом руководстве он давно известен как важнейшее требование, «золотое правило» диалектической методологии: необходимость конкретного анализа конкретной ситуации.
Государственное управление — не всеохватывающая деятельность. Его сфера ограничена самоорганизацией гражданского общества. Из объективной необходимости сочетания управления с самоорганизацией общественной системы вытекает принцип ограниченной рациональности. Он фиксирует наличие естественных рамок позитивного воздействия государственного управления на общество как саморегулирующуюся систему. За ее пределами вмешательство рационального воздействия государства приводит не к стабильному функционированию общественной системы, а порождает дисфункции, стимулирует не развитие (прогресс), но деградацию общественного организма как целого. На языке политическом нарушение меры необходимого соотношения управления и саморегуляции означает переход к авторитарным методам властвования и управления и свертыванию демократических форм организации общественных отношений.
Принцип ограниченой рациональности интерпретируется и в другом, прагматическом плане. Он подтверждает отмеченную выше истину: не всякое действие управленческого субъекта есть научно обоснованный акт; целесообразно не только научное управление, но и управление как искусство. В литературе отмечается, что принцип ограниченой рациональности допускает возможность непрограммируемых решений наряду с научно обоснованными и программируемыми. В определенных ситуациях возникает необходимость разработки неизвестных ранее вариантов стратегий, в том числе связанных с известным риском, грозящим потерями для государства. Однако вероятность потерь будет тем меньше, чем основательнее риск продуман и опирается на опыт, профессионализм и на новую информацию. Риск трезвомыслящего политика и государственного деятеля нельзя отождествлять с авантюристическим действием лица, облеченного властью, поступающего по правилу: «Куда хочу, туда и ворочу».
Наконец, следует остановиться на принципе обратной связи. Являясь универсальным в теории управления, этот принцип в его специфической социально-политической форме выражения составляет один из главных элементов управленческого субъект-объектного отношения. Благодаря обратной связи субъектно-объектное отношение превращается в субъектно-субъектное. Управляемый объект, воспринимая управляющее воздействие, оказывает в свою очередь влияние на управляющего, выступая тем самым в роли субъекта. Обратное воздействие может быть положительным, т.е. усиливающим исходящие от государственного органа импульсы, или отрицательным, ослабляющим их эффективность. Характер влияния обратной связи зависит прежде всего от управляющей системы: насколько направленность ее действий отвечает потребностям и интересам управляемых.
Принцип обратной связи требует от управляющего субъекта постоянного контроля за тем, как управляемый объект реагирует на его действия, в какой мере соответствует реакция объекта реализации целей и исполнению принятых решений и какие элементы поведения последнего не вписываются в планы системы, а противоречат или даже блокируют исполнение решений.
2. Принципы, регулирующие управление как социально-политический процесс
Речь идет о принципах, которые формулируются на основе познания требований закона зависимости воздействия управляющего субъекта на объект от состояния системы управления и общественной среды. Иными словами, мы переводим анализ в плоскость проблемы «система государственного управления — общество». Суть ее в данном контексте можно сформулировать вопросом: каковы требования к управляющей системе, объективно обусловленные ее зависимостью от состояния общества? Одно из них заключается в том, что система должна соответствовать социально-экономическим, политическим и культурологическим особенностям общества, его национальным традициям. Этот принцип реализуется в международной практике.
Как правило, каждое государство создает свои, специфические для данной страны, структуры власти и управления. Печать своеобразия лежит на всем механизме организации систем управления. Так, в бывшем Советском Союзе существовала принципиально отличающаяся от других система власти и управления, соответствующая целям государства и ценностям, господствовавшим в нем. В современной России в основном завершено строительство каркаса системы, которую правящие круги называют либерально-демократической. Ее системообразующие элементы в главном воспроизводят институты западных стран.
Абстрагируясь от политических оценок государственного строительства в нашей стране, отметим один существенный момент. Для России извечной традицией был государственный централизм. С этой традицией, по-видимому, не могут не считаться власти, ориентируясь на развитие демократических основ управления. Кстати говоря, учет традиций — «наследственно передаваемой информации» — соответствует принципу двуканального управления, основывающегося на информации из «прошлого» и «настоящего». Речь идет, разумеется, не о механическом перенесении структур прошлых времен в настоящее (скажем, самодержавия, по которому «скучают» некоторые московские политики и деятели искусства). Имеется в виду следование закону исторической преемственности: элементы исторически пройденных этапов воспроизводятся в современном обществе в критически переработанном виде, адаптированными к новым условиям социально-политической жизни, к актуальным потребностям и интересам.
Опираясь только на национальный опыт, разумеется, невозможно решать современные проблемы государственного строительства. Нельзя абсолютизировать и значение российской специфики управления. Опыт передовых стран мира в области организации систем государственного управления — важнейший источник изучения и обогащения практики руководства нашим государством и страной. При этом обязательна адаптация зарубежных структур, форм и методов управления к своеобразию социально-политических, экономических и социокультурных условий России. Игнорирование этого правила реформации, в частности насаждение неолиберальной модели взаимоотношения государства и общества, предопределило во многих случаях результаты, противоположные ожидаемым, традиционным для европейских стран. Особенно велики негативные последствия эксперимента в области экономики.
Это вынуждено признать ныне и высшее руководство страны. Так, в Послании Президента РФ Федеральному Собранию РФ В.В. Путина 26 мая 2004 г. прямо говорится: «...За время длительного экономического кризиса Россия потеряла почти половину своего экономического потенциала. За четыре последних года мы смогли компенсировать около 40 процентов падения. Но, несмотря на это, нам пока не удалось "догнать самих себя" образца 89-го года» [7].
Для российской политической и научной элит отношение к западноевропейской политической культуре всегда оставалось проблемой, вызывавшей жаркие дискуссии. Однако наиболее видные ее представители отстаивали идею критического осмысления и использования достижений Запада с учетом особенностей страны. Выдающийся русский историк В.О. Ключевский писал, что реформы 60-х гг. XIX в. продвигали русскую жизнь к тем основаниям, «на каких держится» жизнь западноевропейских обществ. В то же время выяснилось, что западноевропейские идеи не могут быть полностью приложимы к русской действительности. «Мы начали критически относиться и к идеям западноевропейской цивилизации» [9].
Анализируемый принцип государственного управления относится не только к формированию и деятельности системы управления на уровне федеральном. Он лежит также в основе государственного строительства на уровне субъектов Федерации. Отсюда вытекает конституционная установка на широкую самостоятельность управленческих структур регионального характера.
Исторически сложившейся формой взаимодействия государства и общества является политическая демократия — система управления государством и самоуправления народа. В ее основе лежит принцип обратной связи. В этом смысле демократия есть социально-политическая форма реализации принципа обратной связи в государственном управлении. Такая интерпретация демократии подтверждается многими ее теоретическими определениями, содержащимися в трудах известных зарубежных ученых (Поппера, Хайека, Шумпетера и др.). Например: демократия — политическая система, в которой власть исполняется с согласия управляемых; демократия есть управление в рамках правил, установленных с согласия управляемых, в рамках правосудия и справедливости; демократия — это политическая система, в которой каждый индивид или группа может полностью и свободно выразить свое мнение по обсуждаемым проблемам. Будучи формой государства, демократия вместе с тем и важнейший принцип его управления, а точнее говоря, совокупность принципов. (Кстати сказать, в США знание того, что демократия — принцип, на котором базируется государственное управление в Америке, требуется даже от эмигрантов, экзаменующихся на получение гражданства).
Реальное наполнение принципа демократизма заключается в реализации управляемыми (социальными группами, коллективами, индивидами) своего права непосредственно или через избираемые ими органы участвовать в управлении государством и обществом. Государство же обеспечивает необходимые организационные, политические и материально-технические условия для осуществления народом управленческой функции.
Чтобы фактически, а не декларативно, управляемые могли принимать участие в разработке проектов и программ и в утверждении государственных решений, им нужно иметь, во-первых, доступ к соответствующей информации; во-вторых, — реальную возможность свободно выражать свое мнение по обсуждаемым проблемам (в том числе в средствах массовой информации); в-третьих, обладать средствами контроля за деятельностью управляющих на всех уровнях системы, которые обеспечивали бы исполнение власти и функций управления в рамках правил, установленных с согласия общества; в-четвертых, управляемые должны быть защищены государством от любых форм принуждения при выполнении ими гражданских властных функций. В свою очередь демократия требует от руководителя при принятии решений исходить из интересов масс; опираться на силу народа и быть ответственным перед ним за принятые решения. Деятельность управляющего субъекта должна быть открытой для общества. Массы имеют право знать все; они могут судить обо всем. Эта мысль, высказанная в свое время Лениным, не перестала быть актуальной.
Гласность, открытость — неотъемлемый элемент демократии, политической жизни свободного общества. И, наоборот, скрытность, тайна всегда были в арсенале авторитарной власти и служили силой, укрепляющей господство над подвластными массами. Английский философ и политический деятель Ф. Бекон (XVII в.) писал, что скрытность широко используется в политической борьбе. Кто «на деле проницателен, видит, что должно утаить, а что обнаружить лишь отчасти и когда и кому (искусство, нужное в государственной жизни), для того» скрытность (или лицемерие) — лишь помеха. «Но кто не обладает такой силой суждений, тому остается лишь взять скрытность и лицемерие за правило» [10].
Русский писатель Ф.М. Достоевский устами своего литературного персонажа «Великого инквизитора» провозглашал: «Есть три силы, единственные силы на земле, могущие навеки победить и пленить совесть... слабосильных бунтовщиков для их счастья, эти силы: чудо, тайна и авторитет». Чудо всегда приписывалось политике и политикам, ибо люди никогда не посвящались в суть политической власти, а тайна была постоянной спутницей борьбы за власть. Так и поныне: секретные решения, затрагивающие интересы народа; скрываемая от общественности борьба в коридорах власти между представителями различных групп интересов; замаскированное популистскими тирадами лоббирование проектов финансовых олигархов — эти и многие другие «технологии» на вооружении правящих кругов.
Однако ими сегодня успешно используется в корыстных политических интересах и открытость информации, причем только той, которая выгодна властям и свидетельствует об успехах государственного руководства или оправдывает провалы. Конечно же, когда идет речь об открытости — гласности как требовании демократического принципа государственного управления, имеется в виду не субъективистски препарированная информация. Именно подобная информация продолжительное время распространялась телевидением и заполняла газетные полосы, мешая массам понять пороки монетаристского курса экономической политики радикал-реформаторов и услышать об альтернативных вариантах проектов реформирования экономики.
Гласность включает следующие виды деятельности управляющего субъекта:
1)объективное, всестороннее информирование управляемых о состоянии экономики, социальной сферы, общественных отношений, о внутренней и внешней политике государства в данный момент времени;
2)регулярное опубликование официальных документов, аналитических отчетов, статистических данных, результатов социологических исследований и других материалов, характеризующих деятельность государственных органов всех уровней;
3)публичное обсуждение проектов целевых программ центрального и региональных правительств, намеченных руководством политических курсов, а также планируемых путей и методов их осуществления;
4) открытость контроля за деятельностью управляющих органов, привлечение общественности (заинтересованной в тех или иных решениях) к анализу и оценке результатов и последствий выполнения программ и планов.
В настоящее время государственные органы России располагают огромными информационными ресурсами, материально-технической базой и научно-аналитическими учреждениями для решения задач, связанных с осуществлением гласности. Имеется и соответствующая законодательная основа. Весь вопрос в политической воле и желании правящих кругов и, конечно же, в стимулировании активности управляемых. Монополия исполнительной власти в Центре и в субъектах Федерации на информацию и информационные ресурсы — главное препятствие на пути реального осуществления гласности в государственном управлении.
Плюрализм (от лат. pluralis — множественный) — характерная черта современных политических режимов. Понятие плюрализма обозначает признание участия в государственной жизни различных взаимозависимых и вместе с тем автономных социальных и политических групп, партий, организаций, интересы, идеи и установки которых находятся в постоянном сопоставлении, соревновании, конкурентной борьбе. Плюрализм как элемент демократии исключает монополизм в любой его форме.
В теории государственного управления понятие плюрализма можно рассматривать в онтологическом и гносеолого-методологическом аспектах. Онтологический аспект — это отражение в данном понятии бытия и функционирования в системе государственного управления разнообразных и противоречивых элементов, групп интересов и связанных с ними идей и установок. Плюрализм как методологическая категория характеризует подход при объяснении системы управления с позиции признания в ней закономерного многообразия центров власти и управления, автономности различных уровней субъектов управления и взаимодействия их по принципу координации и «сдержек и противовесов». Это подход, обосновывающий свободную борьбу мнений между участниками управления при выборе целей, альтернативных проектов и принятии решений, при определении средств и методов их осуществления. Плюрализм — мировоззренческая идея в составе управленческой культуры, предполагающая сосуществование и состязательность в рамках единой системы различных и альтернативных ценностей и образцов поведения управляющих и управляемых. Культура федерализма — тому пример. Поле федеративных отношений в нынешней России насыщено множеством разнообразных идей и норм, методов и приемов управления, обычаев и традиций, обусловленных региональными, этнонациональными и геополитическими факторами.
Многообразие и альтернативность в управлении, однако, нельзя трактовать только как противоположность единству системы. При таком понимании теряет смысл управление, отвергаются его объективные законы. Плюрализм рационален в сочетании с социальной и политической интеграцией; он разумен в рамках общих национально-государственных интересов, общепризнанных ценностей и законности. Ни авторитет высших органов государственной власти и управления, ни общность политического и правового пространства, ни единая система государственного управления, выстроенная на основе демократических принципов, наконец, ни какая бы то ни было жесткая государственная дисциплина не будут антиподом плюрализма. Они исключают лишь вульгаризированные модели его интерпретации — в духе субъективизма и волюнтаризма, регионализма и корпоративизма.
Принцип демократизма «работает» на всех этапах управленческого процесса при условии, если его требования не только провозглашены законом, но и признаны обществом неотъемлемыми правилами, которыми обязаны руководствоваться управляющие и управляемые. Чем полнее осуществляются демократические нормы управления, тем активнее общество содействует работе государственных институтов. И напротив, ограничение демократии или ее отсутствие ведет к отчуждению управляемых от управляющих органов, порождает противодействие их усилиям.
В России в постсоветский период наблюдается ряд явлений, несовместимых с демократией и ведущих к ее ритуализации. По мнению профессора В.П. Пугачева (МГУ), главными ограничителями политической свободы служат не формальные запреты, как это было в коммунистическое время, а «почти полная монополия правящего режима на экономические и информационные ресурсы». Это дает решающее преимущество для победы на выборах, превращения их в инструмент политического манипулирования. Единственным «непосредственным источником политических изменений, — продолжает автор, — остается исполнительная власть и ее аппарат. В стране появились новые группы интересов в лице финансово-промышленных объединений. Важнейшей их особенностью является преимущественно теневой характер влияния и стремление подчинить себе политическую и информационную власть» [11].
Эмпирические данные, полученные путем опроса населения и чиновничества, проведенного учеными информационно-социологического центра Российской академии государственной службы при Президенте РФ в июне — июле 1998 г., подтверждают точку зрения профессора В.П. Пугачева. В России, согласно этим данным, в то время сложился авторитарный режим власти, причем с той особенностью, что он утвердился в государственном управлении демократическим путем. Его признаки налицо: концентрация власти в руках президента, а в регионах — глав администрации (губернаторов); отсутствие реального парламентского и общественного контроля за деятельностью главы государства и руководителей субъектов Федерации; неограниченность контроля власти над экономикой и социальной сферой; утрата властями обратной связи с населением, что восполняется многочисленными массовыми акциями протеста. Добавим, что СМИ, призванные по своему определению служить инструментом обратной связи субъекта государственного управления с обществом, в силу того, что они всецело под контролем исполнительной власти и олигархических структур, превратились в то время в орудие укрепления авторитарного правления. Судьба демократических институтов в управлении и власти, о которых так много говорила и говорит политическая элита, в немалой мере зависит от того, насколько энергично и организованно большинство народа и прогрессивных партий будут защищать их от авторитаризма.
Законность и признание обществом, т.е. легитимность структур, правил, форм и методов деятельности государственных органов и поведения управляемых, также является общим принципом государственного управления.
Принцип законности означает всеобщность требования соблюдать и исполнять законы. Органы государственной власти и должностные лица, органы местного самоуправления, граждане и объединения граждан обязаны соблюдать Конституцию и законы России. Применительно к государственному управлению принцип конкретизируется в ряде требований: верховенство закона и непосредственное действие конституционно закрепленных прав и свобод человека и гражданина; осуществление государственных властно-управленческих функций исключительно на основе законов и соответствующих им подзаконных актов; верховенство Конституции РФ и федеральных законов над иными нормативными актами, должностными инструкциями при исполнении государственными служащими должностных обязанностей и обеспечении их прав; и т.д. [12].
Легитимность — тот элемент механизма в системе власти и управления, без которого она функционировать не может. Правовое обеспечение системы и поддержка общества — основные факторы, гарантирующие ее действенность. Из многих аспектов данной проблемы отметим лишь два вопроса, приобретших в настоящий период особенно острый характер. Мы имеем в виду явления правового нигилизма и вопрос о доверии общества к руководящим органам государства.
Правовой нигилизм — одна из не лучших традиций государственной жизни в России. В настоящий период он возродился в разнообразных новых проявлениях: в неисполнении общефедеральных законов; в конфликте норм общегосударственного значения и относящихся к отдельным сферам жизни, а также общегосударственного и регионального законодательства. По данным Минюста России, в стране в конце XX в. более 13 тыс. законов и других нормативных актов, принятых в субъектах Федерации, не соответствовали или прямо противоречили российскому законодательству. В некоторых республиках приняты законы, ограничивающие права так называемых «некоренных» национальностей. Конфликт юридических норм превращается в противостояние живых юридических субъектов, провоцирует борьбу ущемленных в своих интересах национальных групп (чаще всего русского населения) против правового беспредела и несправедливости. Возникают юридические прецеденты местного регионального истолкования отдельных статей Конституции РФ (например, о частной собственности на землю). К сожалению, первый Президент России, будучи гарантом Конституции, не всегда пресекал подобные инициативы, умножающие коллизии законов и стимулирующие правовой анархизм. Это вело к массовому неисполнению любых законов. Так, согласно названному исследованию, проведенному информационно-социологическим центром Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации, от 70 до 80% опрошенных представителей региональной политической элиты, государственных служащих и населения указали на неисполнение законов, регулирующих экономическую деятельность и социальные права граждан. Данные факты свидетельствуют, что традиционный российский конфликт между законом и массовым поведением населения и административно-политической элиты, между юридическими нормами и поступками власть имущих — долгое время был скорее правилом, чем исключением.
Народные поговорки, зафиксировавшие негативное отношение к закону: «Закон — что дышло, куда повернешь, туда и вышло»; «Кто законы пишет, тот их и ломает» и др. — отражают неприятную жизненную правду.
Правовой нигилизм, практика массового неисполнения законов, как правило, порождают неуправляемость деятельностью государственных и общественных институтов. Механизм спонтанной социальной регуляции не может заменить функцию целенаправленного регулирования социально-политических, экономических, информационных и др. процессов. На политическом поле при этом зачастую формируется «ничейный» сектор, где господствует хаос.
Деформация правового фактора легитимности государственного управления прямо связана с кризисом доверия общества к органам власти. Его проявления зафиксированы в многочисленных публикациях прессы и социологических исследованиях. Материалы многих мониторинговых социологических опросов показывают, что реальный общественный авторитет ключевых субъектов властных отношений — президента и федерального правительства, а также палат Федерального Собрания России — неуклонно в последние годы XX в. падал и достиг низших отметок — «кризиса доверия к государственной власти». По данным опроса населения, во взаимоотношениях между гражданами и представителями органов власти преобладало в лучшем случае равнодушие, а в худшем (и это значительно чаще) — недоверие и неприязнь. Аналогичных взглядов придерживаются государственные служащие.
Кризис доверия, бесспорно, был обусловлен проявившейся неспособностью государственных органов власти и управления выполнять функции обеспечения социальной организации, стабильности и целостности российского общества, добиваться правового порядка в стране, решать жизненно важные для народа проблемы.
Демократизм предполагает широкое развитие общественного самоуправления — не в качестве противовеса государственному управлению, а его дополнения и формы усиления регулирования общественными процессами. Демократическое государство не ставит целью взять под свой контроль и управлять всеми элементами и процессами общественной жизни. Да и система государственного управления, как уже говорилось, ограничена в своей деятельности спонтанной социальной саморегуляцией в виде общественного самоуправления. Последнее, как известно, действует в границах гражданского общества, является функцией его институтов. Вместе с тем самоуправление целенаправленно внедряется или стихийно проявляется в условиях демократии.
Ограниченность воздействия субъекта государственного управления на общественные процессы объективно детерминирована. С одной стороны тем, что любой субъект (орган) управления не может объять все многообразие общественных явлений (неограниченной информации); с другой — не существует и такой потребности, поскольку субъекту нужна для выполнения его функций только необходимая (ограниченная) информация. Объективно оптимальный вариант — сочетание управления с саморегуляцией общества, с его самоорганизованностью и самодеятельностью, иначе говоря, с общественным самоуправлением. Такая взаимосвязь носит всеобщий характер. Она стала потребностью (но не реализованной) с того исторического времени, когда возникло государство. Необходимость сочетания государственного управления и общественного самоуправления порождена не волей власть имущих, которые всегда желали править всем и вся, а природой и сущностью как государства, так и общества, да и объективным законом усиления управления. Сфера действия государства — общезначимые виды деятельности и общественных отношений. Однако общество не слагается только из совокупности социально значимых организованных и контролируемых государством объектов коллективной жизни людей, а включает и многообразную саморегулируемую сферу частной (индивидуальной) жизни.
Попытки утопического коммунизма обобществить индивидуальную жизнь людей и охватить рациональным управлением все клеточки социального организма, как известно, потерпели поражение. Превращение государственного управления в некую тотальную систему привело к тому, что рациональность обернулась иррациональностью на уровне общественной системы, а на уровне ее отдельных элементов — господством командно-принудительного администрирования — имитации управления.
Другая крайность — стремление заменить государственное управление на тех участках социальной жизни, где оно необходимо, организацией общественного самоуправления. Подобный эксперимент проводился в стране в начале 60-х гг., и он также потерпел неудачу. Так, возникшие в то время «народные дружины» оказали некоторую помощь органам правопорядка в борьбе с преступностью и за укрепление общественной дисциплины. Но, конечно же, они не могли играть той роли, которая на эти общественные самодеятельные организации возлагалась политическим руководством. Новый режим вообще отказался от подобных форм самодеятельного участия граждан в выполнении государственными органами функции защиты безопасности населения. И, наверное, поступил вновь вопреки логике возможностей общества. А вот в сфере экономики, напротив, во главу угла им была поставлена рыночная саморегуляция, т.е. стихия самоуправления индивидуального субъекта. Естественно, что она не позволила в современных условиях страны обеспечить наступление ожидаемого либералами экономического бума. Тем не менее самоуправление рассматривается современной наукой управления экономикой в качестве одной из тенденций развития и одного из стилей антибюрократического поведения управляющего производственной организации. «Самоуправление заменит организационный контроль» [13].
Проблема общественного самоуправления пересекается с вопросом о местном самоуправлении как низшем уровне властеотношений, связанном с государственным управлением.
Организационные, системно-функциональные принципы
К данной группе относятся принципы, регулирующие организацию управленческой деятельности и управленческих отношений как системы. Государственное управление — это искусственно создаваемая система, хотя и закономерно обусловленная. Она функционирует и изменяется не стихийно, а в результате сознательной, целенаправленной деятельности правящих политических сил.
Системный подход — фундаментальный принцип организации государственного управления как системы и обеспечения ее функционирования и развития. Он отражает объективно необходимую форму организации государственного управления. Данный принцип включает два аспекта:
1)системный анализ как способ объяснения объектов и процессов государственного управления и разработки его теоретической модели;
2)системосозидательная деятельность как практический процесс осуществления системного управления. Организация и воспроизводство системы связаны с системным анализом как практика с теорией.
Последняя в идеале предшествует системосозидательной деятельности управляющего субъекта, а также сопровождает его, иначе говоря, образует его неотъемлемую сторону.
Системный анализ — это метод выявления и описания внутренних взаимосвязей между элементами государственного управления, объединяющих их в единое целое; это вместе с тем, обоснование условий формирования системных признаков, тех или иных элементов: структур, процессов, действий. При этом акцент делается не на описании расположения и сочетания элементов, а на анализе реализуемых ими функций. Последние и есть отношения взаимозависимости между типичными, характерными для системы управления ролями, институтами, процессами и т.д. Функциональные зависимости — это наблюдаемые объективные следствия, которые служат саморегуляции управляющей системы и приспособлению ее к изменяющейся среде. Функция предъявляет соответствующее требование к структурным элементам, включенным во взаимосвязь, детерминируя тем самым формирование системных признаков. Таково условие сохранения и действия системы. Например, в иерархии исполнительной власти нарушение любого звена в связи подчинения нижестоящих органов вышестоящим неизбежно разваливает систему.
Изучение функциональных взаимосвязей включает рассмотрение как их объективной стороны, так и субъективной мотивации; предполагает исследование альтернативных моментов механизма реализации каждой функции; раскрытие дисфункций; выявление возможностей осуществления функциональных связей через посредство напряженностей, социально-политических стрессов и конфликтов. Игнорирование противоречивого характера функциональных взаимосвязей приводит к утопическим представлениям о властных и управленческих отношениях. Признание наличия дисфункций, конфликтности функциональных взаимодействий открывает возможность для понимания динамичности управленческой системы.
Внутреннюю организацию системы описывают такие понятия, как интеграция, дифференциация, централизм и взаимозависимость. Анализ факторов, которые обеспечивают регуляцию и сохранение системы, осуществляется при помощи понятий: устойчивости, равновесия (противоположных сил), негативной энтропии (рост числа и организационной сложности сил), гомеостаза (динамическая саморегуляция, способность системы сохранять внутреннее равновесие даже под давлением различных изменений). Динамика системы отражается в понятиях: адаптация, кризис, напряженность, нагрузка и др. [14].
Системосозидательная деятельность управляющего субъекта — практическая реализация системного подхода в государственном управлении. Одним из основополагающих требований этого подхода является необходимость соответствия цели управляющего государственного субъекта целям составных частей управляемого объекта и превращение первой в общую цель системы. Объект управления становится управляемым, если общая цель не только провозглашается, скажем, в политической стратегии, но и адекватно воспринимается социально значимыми слоями общества и реализуется государством.
Как показывает политический опыт реформирования России, основная причина допущенных руководством государства ошибок кроется в том, что главные цели реформ, во-первых, не были достаточно четко сформулированы, во-вторых, правящий субъект не добился превращения поставленных им целей капитализации страны в общие цели большинства социальных групп. Вследствие этого общая система государственного управления не сложилась как сбалансированный, отлаженный и высокоэффективный механизм. Многие секторы общественной жизни оказались неуправляемыми. Надежда на «невидимую» руководящую силу механизмов рынка и всеобщей демократии не оправдалась.
Расхождение, а в ряде аспектов конфликт между целями управляющего государственного блока с одной стороны, и интересами и целями значительной части управляемых, с другой — породили противоречия между законодательной и исполнительной ветвями власти, между центральными (федеральными) и региональными органами управления. Причем противоречия оказались настолько существенными, что получили отражение в несоответствии многих правовых норм, закрепленных в конституциях республик — субъектов Федерации, Основному Закону государства. Сказанное объясняет наличие в обществе политического и идеологического раскола и острой политической борьбы в высших эшелонах власти, да и на региональном уровне. Осознавая антисистемные тенденции в государстве, правящий субъект предпринимает действия противоположного характера. Стремление вернуть государству функцию управления (или регулирования) наиболее важными отраслями экономики; ориентация на развитие ее реального сектора в интересах большинства населения страны; попытка решать наиболее острые социальные противоречия; деятельность Правительства и политического руководства, направленная на достижение согласия в обществе, призывы Президента разработать общую идею для России, встретившие, правда, неоднозначные отклики со стороны интеллектуальной и политической элит, — все эти мероприятия в русле системосозидательной деятельности.
Общность целей управляющего субъекта и различных слоев и групп управляемых — цементирующая основа системной организации государства. Подчинение общей цели системы всех других целей: отдельных управляющих институтов на федеральном уровне, целей субъектов Федерации, корпоративных и частных целей — непременное условие действенности взаимосвязей соподчинения и координации между органами власти и управления различных уровней. Общая цель есть общегосударственная цель, отражающая национально-государственные интересы. Признание первенства их среди особенных и частных, в том числе личных, — стержневая установка организации государственного управления как системы. Интересы и цели части не могут быть выше интересов и целей целого. Это положение отнюдь не противоречит демократическому постулату о человеке как высшей цели государства, ибо для последнего интересы человека могут быть осуществлены только в рамках реализации интересов общегосударственных, поскольку они составляют их часть.
Отсутствие естественного для системной организации управления единства интересов и целей управляющих и управляемых не позволяет создать единую общегосударственную систему власти и управления. Конституционно установленный принцип организации функциональных взаимосвязей на основе разграничения предметов ведения и полномочий пока фактически не всегда и не повсеместно реализуется. И это не вся проблема. Думается, что несмотря на свой правовой потенциал, он недостаточен для обеспечения желаемой целостной системы управления. Поиск вариантов системосозидательного характера — структур, функций, взаимосвязей между управляющими организациями и властными институтами — продолжается.
Важную роль в этом отношении сыграли изменения, внесенные в 2000—2003 гг. в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», реформа Совета Федерации, осуществленная в соответствии с Федеральным законом «О порядке формирования Совета Федерального Собрания Российской Федерации» (2000 г.), Федеральные законы «О системе государственной службы Российской Федерации» (2003 г.) и «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (2004 г.), новая редакция Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (2003 г.), вступающего в действие с 1 января 2006 г., а также ряд других федеральных законов.
В рамках достраивания общегосударственной системы управления, усиления ее системного характера и повышения эффективности политическим руководством страны разработаны и реализуются административная реформа, реформы государственной службы, местного самоуправления, народного образования, военная и судебная реформы, ряд других крупных преобразований.
Еще в 1998 г. Президентом России в его Послании Федеральному Собранию Российской Федерации была поставлена задача осуществить административную реформу. При установленном новом механизме власти, говорилось в Послании, сохранились многие из прежних принципов построения госаппарата и методов управленческой деятельности. В наибольшей степени это проявляется в работе исполнительной власти. В Послании речь шла о дальнейшей разработке программы государственного строительства как «продуманной системы мер модернизации различных институтов власти». Мы рассматриваем в данном случае эту программу в качестве примера системообразующей деятельности руководства государства.
«Стержнем» программы является концепция административной реформы по преобразованию системы исполнительной власти. Она включает обоснование необходимости реформы, т.е. создания нужной для государства «системы исполнительной власти, структуры ее органов, четкой дифференциации их правового статуса». Прежде всего требуется разграничение собственно управления и функции оказания государственных услуг», чем должны заниматься не органы власти, а государственные учреждения, работающие, как правило, на самоокупаемости. Другое мероприятие — уточнить классификацию и сделать стабильной структуру органов исполнительной власти. Это позволит создать более четкий механизм принятия и исполнения решений и не допускать произвольные реорганизации государственных органов. Следующий шаг на пути формирования планируемой системы: ограничиться тремя видами федеральных органов исполнительной власти. Это: министерство (опорный элемент), федеральная служба (управление), федеральный надзор. «Другими словами, речь идет о создании правительства, функционирующего как кабинет министров. Федеральная служба (управление) должно быть самостоятельным органом исполнительной власти, выполняющим непосредственно специализированные функции, в том числе применение мер государственного принуждения. Из других мероприятий отметим необходимость перехода к управлению на основе «собственной компетенции», что означает установление и безусловное соблюдение рамок компетенции и предполагает ответственность за решения и действия. Компетенция — это не только полномочия, которыми наделен орган власти или должностное лицо, но и обязанность их применять при выполнении своих функциональных задач. Административная реформа должна сопровождаться изменением подходов к ресурсному обеспечению органов управления. Реформа включает формирование государственного аппарата на основе «системы заслуг и достоинств».
Дальнейшее развитие идеи совершенствования государственного строительства, модернизации институтов власти получили в Указе Президента РФ В.В. Путина от 23 июля 2003 г. № 824 «О мерах по проведению административной реформы в 2003-2004 годах», в Посланиях Президента РФ Федеральному Собранию в 2002-2004 гг. и ряде других документов.
Результатом административной реформы должно стать государство, адекватное нашему времени и целям, перед которыми стоит наша страна. И государственный аппарат должен быть эффективным, компактным и работающим.
Необходимо осуществить следующее.
Во-первых — модернизировать систему исполнительной власти в целом. Сегодня подразделения исполнительной власти живут так, будто они продолжают оставаться штабами отраслей централизованного народного хозяйства. Направляют усилия на то, чтобы подчинить себе — финансово и административно — предприятия и организации. В результате таких административных издержек вести цивилизованный бизнес в стране чрезвычайно сложно.
Прямая обязанность государства - создать условия для развития экономических свобод, задавать стратегические ориентиры, предоставлять населению качественные публичные услуги и эффективно управлять государственной собственностью. Для этого структура исполнительной власти должна быть логично и рационально устроена, а госаппарат должен стать работающим инструментом реализации экономической политики.
Во-вторых, госаппарату нужна эффективная и четкая технология разработки, принятия и исполнения решений.
В-третьих, надо, наконец, провести анализ ныне реализуемых государственных функций и сохранить за государственными органами только необходимые.
Конечно, ревизия функций государства — задача непростая и долговременная. Здесь не может быть никакой кампанейщины, которая обычно заканчивается плавным «переливом» чиновников из одной структуры в другую. Но в стране уже три года идет речь о сокращении избыточных функций госаппарата, ведомства «цепляются» за эти функции.
Придавая этим проблемам исключительно важное значение, Президент РФ В.В. Путин в своем Указе от 23 июля 2003 г. № 824 «О мерах по проведению административной реформы в 2003—2004 годах» определил на этот период ее следующие приоритетные направления:
• ограничение вмешательства государства в экономическую деятельность субъектов предпринимательства, в том числе прекращение избыточного государственного регулирования;
• исключение дублирования функций и полномочий федеральных органов исполнительной власти;
• развитие системы саморегулируемых организаций в области экономики;
• организационное разделение функций, касающихся регулирования экономической деятельности, надзора и контроля, управления государственным имуществом и предоставления государственными организациями услуг гражданам и юридическим лицам;
• завершение процесса разграничения полномочий между федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, оптимизация деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти.
Значительным шагом на пути реализации административной реформы в России и перехода к заложенной еще в концепции 1997-1998 гг. трехзвенной структуры федеральных органов исполнительной власти, давно с успехом используемой во многих западноевропейских странах, явилось реформирование федеральных министерств, осуществляемое в соответствии с Указом Президента РФ В.В. Путина от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» [15].
Согласно Указу в систему федеральных органов исполнительной власти входят федеральные министерства, федеральные службы и федеральные агентства.
Федеральное министерство является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленной актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации сфере деятельности. Федеральное министерство на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации самостоятельно осуществляет правовое регулирование в установленной сфере деятельности, за исключением вопросов, правовое регулирование которых осуществляется исключительно федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. При этом министерство не вправе осуществлять функции по контролю и надзору, правоприменительные функции, а также функции по управлению государственным имуществом, кроме случаев, устанавливаемых указами Президента РФ. Министерство осуществляет координацию и контроль деятельности находящихся в его ведении федеральных служб и федеральных органов, выполняя в этих целях функции, конкретно прописанные в данном Указе.
Федеральная служба, как записано в Указе Президента РФ, является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, а также специальные функции в области обороны, государственной безопасности, защиты и охраны государственной границы Российской Федерации, борьбы с преступностью, общественной безопасности. Федеральная служба в пределах своей компетенции издает индивидуальные правовые акты на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов федерального министерства, осуществляющего координацию и контроль деятельности службы.
Федеральная служба не вправе осуществлять в установленной сфере деятельности нормативно-правовое регулирование, кроме случаев, устанавливаемых указами Президента Российской Федерации, а федеральная служба по надзору - также управление государственным имуществом и оказание платных услуг.
Федеральное агентство является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим в установленной сфере деятельности функции по оказанию государственных услуг, по управлению государственным имуществом и правоприменительные функции, за исключением функций по контролю и надзору. Федеральное агентство в пределах своей компетенции издает индивидуальные правовые акты на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов и поручений Президента Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации и федерального министерства, осуществляющего координацию и контроль деятельности федерального агентства. Федеральное агентство ведет реестры, регистры и кадастры; не вправе осуществлять нормативно-правовое регулирование в установленной сфере деятельности функции по контролю и надзору, кроме случаев, устанавливаемых указами Президента Российской Федерации.
Порядок взаимоотношений федеральных министерств и находящихся в их ведении федеральных служб и федеральных агентств, полномочия федеральных органов исполнительной власти, а также порядок осуществления ими своих функций устанавливаются в положениях об указанных органах исполнительной власти.
Федеральная служба и федеральное агентство могут быть подведомственными Президенту Российской Федерации.
Следует также обратить внимание на то, что в Указе Президента РФ «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» от 9 марта 2004 г. № 314 установлено, что функции федерального органа исполнительной власти, руководство деятельностью которого осуществляет Президент Российской Федерации, определяются указом Президента Российской Федерации, функции федерального органа исполнительной власти, руководство деятельностью которого осуществляет Правительство Российской Федерации, — постановлением Правительства Российской Федерации.
При этом для целей настоящего Указа:
а) под функциями по принятию нормативных правовых актов понимается издание на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов обязательных для исполнения органами государственной власти, органами местного самоуправления, их должностными лицами, юридическими лицами и гражданами правил поведения, распространяющихся на неопределенный круг лиц;
б) под функциями по контролю и надзору понимаются: осуществление действий по контролю и надзору за исполнением органами государственной власти, органами местного самоуправления, их должностными лицами, юридическими лицами и гражданами установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и другими нормативными правовыми актами общеобязательных правил поведения;
выдача органами государственной власти, органами местного самоуправления, их должностными лицами разрешений (лицензий) на осуществление определенного вида деятельности и (или) конкретных действий юридическим лицам и гражданам;
регистрация актов, документов, прав, объектов, а также изданий индивидуальных правовых актов;
в) под правоприменительными функциями понимается издание индивидуальных правовых актов, а также ведение реестров, регистров и кадастров;
г) под функциями по управлению государственным имущество понимается осуществление полномочий собственника в отношении федерального имущества, в том числе переданного федеральным государственным унитарным предприятиям, федеральным казенным предприятиям и государственным учреждениям, подведомственным федеральному агентству, а также управление находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ;
д) под функциями по оказанию государственных услуг понимается осуществление федеральными органами исполнительной власти услуг, имеющих исключительную общественную значимость и оказываемых на установленных федеральным законодательством условиях неопределенному кругу лиц.
Такое не вполне традиционное для науки управления понимание категории «функции» позволяет, однако, четко разграничить, чем могут и должны заниматься министерства, чем службы и чем ведомства.
В ходе реализации Указа Президента РФ, направленного на реформу системы и структуры федеральных органов исполнительной власти, в 2004 г. численность федеральных министерств в России сократилась почти вдвое - с 23 до 15, были преобразованы или переименованы, прекратив функционирование в прежнем виде, 6 госкомитетов, 2 федеральных надзора, 5 иных федеральных органов исполнительной ветви власти, с 6 до 1 сократилась численность вице-премьеров. Однако число федеральных служб увеличилось с 13 до 34, федеральных агентств - с 8 до 28, а общее количество федеральных органов исполнительной власти увеличилось с 59 до 76. Да и сокращение численности вице-премьеров произошло по сути дела номинально - ими фактически стали все 17 министров, возглавивших «суперведомства» и курирующих подконтрольные им агентства и службы, наделенных полномочиями более весомыми, чем прежние вице-премьеры.
Конечно, новая система и структура федеральных органов исполнительной власти еще будет совершенствоваться и дополняться адекватными изменениями на уровне субъектов РФ. Предстоит еще немало сделать для достижения главных целей административной реформы — дебюрократизации и уменьшения чиновничьего давления на бизнес в регионах, повышения значимости саморегулируемых организаций, изменения идеологии государственного аппарата, перехода его от служения начальству к служению обществу.
Отметим принципиально важный акцент, содержащийся в концепции административной реформы. Речь не идет о разрушении механизма управления страной в процессе реформирования. Потребуется цепь последовательных, поэтапных шагов, позволяющих внедрить новые принципы, методы, структуры без нарушения управляемости. Данный подход в полной мере соответствует общеметодологическим принципам экономии энтропии и наименьшего действия. К сожалению, ими далеко не всегда руководствовались правящие круги России. При разрушении советской системы государственного управления они зачастую исходили исключительно из политических и идеологических соображений.
Итак, практическая реализация системного подхода в государственном управлении (системосозидательная деятельность) означает:
— достижение общности целей управляющего субъекта и управляемого объекта (общества, его групп и слоев);
— подчинение общей цели системы всех других целей, а также согласование целей управляющих субъектов федерального, регионального и местного уровней как непременное условие действенности функциональных взаимосвязей соподчинения и координации;
— признание первенства общегосударственных интересов и целей по отношению к интересам частей системы — стержневая установка организации государственного управления как целостной системы;
— создание систем управления отдельными ветвями государственной власти и управления (подсистем);
— системообразующим фактором по отношению к институту государственного управления в целом выступает политическая стратегия центрального руководства, а по отношению к отдельным подсистемам — отдельные виды политики: принцип приоритета политики в государственном управлении — база создания системы, регулирующий и направляющий фактор ее адаптации и развития (модернизации).
Нередко принцип системного подхода отождествляют с комплексным подходом в управлении. В действительности последний представляет собою лишь грань, хотя и существенную, принципа системности. Не всякий комплекс объектов и процессов управления является системой.
В демократическом государстве система управления, естественно, должна быть адекватна ему. Проблема, неизбежно возникающая при построении такой системы, — сочетание демократии с централизмом. Каков должен быть централизм? Конечно олигархическим и не бюрократическим. Делегирование власти только «наверх», концентрация ее в одном центральном органе и, тем более, в одном лице или узкой группе лиц завершается утверждением режима авторитаризма. Подобную тенденцию блокирует делегирование определенных властных полномочий «вниз». Объем их, однако, не может превышать тот уровень, за которым региональные и местные органы превращаются в самодостаточные, независимые от центра, и система распадается. Ни бывшей советской системой, ни современной российской эта проблема не решена. Российскому политическому режиму предстоят еще поиски путей оптимального сочетания централизма с демократией в государственном управлении, расширения самостоятельности субъектов Федерации с преодолением тенденции к конфедеративности.
Необходимо усиление внимания к реализации одного из основных организационных принципов государственного управления: централизма на демократической основе. Ранее было установлено, что централизация и децентрализация государственной власти и управления объективно закономерны. Они могут осуществляться как на демократической, так и на авторитарной основе. Несмотря на то, что децентрализация — необходимая предпосылка демократии, тем не менее, эти явления не тождественные. На базе децентрализации государственной власти может зародиться и получить развитие корпоративный авторитаризм. Подобие такого феномена наблюдается в некоторых регионах нашей страны, где главы администраций сосредоточили в своих руках все полномочия власти в регионе, что, конечно, не стимулирует развитие демократии.
Демократия также закономерна. Она, как уже говорилось, принцип государственного управления, в определенном аспекте противоположный централизму. Централизм — воплощение единства государства, его общих интересов и целей; без него не может быть целостной системы государственного управления. Однако централизм несет в себе тенденцию чрезмерной концентрации властных полномочий и сосредоточения управления в одном высшем органе. Демократия же, выражая противоречивые группы интересов, стимулирует центробежные силы, многополюсность субъектов управления, не вписывающиеся в единую иерархическую систему. Противоположность преодолевается ограничением централизма, комплексом организационно-политических и правовых механизмов системы управления, с одной стороны, и включением демократии в пирамиду государственной власти, с другой. В обоих случаях речь идет прежде всего о механизме делегирования властных и управленческих полномочий на основе разделения центров власти и принятия решений, а также — разграничения предметов ведения и полномочий между общегосударственным Центром и субъектами регионального уровня. Делегирование — основной аспект демократического принципа представительства, определяющего механизм формирования органов власти и управления на высшем и последующих уровнях. Суть его в том, что интересы и воля народа как источника государственной власти агрегируются и артикулируются представляющими его институтами, создаваемыми на основе всеобщих выборов и осуществляющими власть и управление общественными делами под свою ответственность.
Содержание принципа централизма на демократической основе включает комплекс требований, предъявляемых к деятельности управляющей системы и к поведению управляемых:
—концентрация власти и управленческих полномочий, делегированных обществом, центральным государственным органом, в пределах функций, масштабов предметов ведения, содержания общегосударственных интересов и целей, объема решаемых задач. Ответственность перед обществом, перед государством, делегировавшими этим органам свою волю и властные полномочия, в рамках законом установленной компетенции;
—децентрализация власти в виде делегирования полномочий сверху вниз, необходимых для управления объектами, составляющими предметы ведения органов регионального и местного уровней системы. Самостоятельность этих органов в пределах собственной компетенции, ответственность за принимаемые решения и действия перед сообществами, которые они представляют, и перед Центром — за исполнение общегосударственной политики;
—формирование и деятельность территориальных межрегиональных организаций, решающих по поручению Центра или ряда регионов комплексные проблемы, затрагивающие интересы соответствующих сообществ;
—отлаженность взаимоотношений между общегосударственным, региональным субъектами и местным самоуправлением, характеризуемая:
а) подчинением субъектов нижестоящих уровней вышестоящим в пределах осуществления полномочий вышестоящего органа;
б) согласованием действий по вопросам, относящимся к предметам общего ведения;
в) самостоятельностью регионального субъекта и местных органов в управлении соответствующими сообществами в рамках утвержденной законом их компетенции и вытекающей отсюда ответственностью перед государством.
Указанная иерархическая структура взаимосвязей субъектов управления обеспечивается: соответствующим распределением материальных ресурсов; политическими средствами; административным воздействием. Приоритет принадлежит правовому фактору: контролю представительных, законодательных органов власти за деятельностью органов исполнительной власти. Управляющий центр должен быть властным авторитетным органом, не только имеющим широкие полномочия, но и пользующимся всеобщим доверием. Практическая реализация принципа централизма на основе демократии измеряется единством действий управляющих субъектов всех уровней системы по осуществлению общих функций, целей и задач, а также достигнутым на данный момент уровнем самостоятельности и активности региональных и местных органов управления; степенью участия граждан как в реализации государственной политики, так и в решении региональных и местных проблем. Смысл данного принципа — в организации такого состояния управленческих отношений, при котором были бы реальными и устойчивыми встречные, но взаимодополняющие вертикали власти и управления: снизу вверх и сверху вниз, скрепляющие систему государственного управления как единое целое и вместе с тем включающие в нее горизонтальные взаимосвязи равноправных субъектов Федерации в виде целевых объединений.
В реализации принципа централизма на демократической основе как одного из важнейших для совершенствования государственного управления в последние годы в России достигнуты определенные положительные сдвиги.
Государству удалось, наконец, как отмечается в Послании Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию 2003 г. [16], юридически и фактически восстановить единство страны, укрепить государственную власть, приблизить федеральную власть к регионам. Благодаря восстановлению единого правового пространства стало возможным вплотную заняться разграничением полномочий между центром и регионами. Здесь еще очень многое нужно сделать. Но мы, во всяком случае, вплотную занялись этой проблемой. Приступили к строительству дееспособной, финансово обеспеченной власти на местах.
За последние годы стране удалось преодолеть абсолютно неприемлемую ситуацию, при которой отдельные российские территории по сути дела находились вне пределов федеральной юрисдикции. Верховенство Российской Конституции и федеральных законов - как и обязанность платить налоги в общефедеральную казну — стали сегодня нормой жизни для всех регионов Российской Федерации.
Исключительно важную роль в этом отношении сыграли принятие и реализация Федерального закона «О принципах и порядке разграничения предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации», принятого Государственной Думой 4 июня 1999 г., а также работа по приведению конституций, уставов, законов и других нормативных правовых актов субъектов РФ в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Федерации, проделанная при активном участии аппаратов Полномочных представителей Президента Российской Федерации в Федеральных округах.
В итоге, как отмечается в Послании Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию РФ 2004 г., «...за четыре последних года мы перешагнули непростой, но очень важный рубеж. И впервые за долгий период Россия стала политически и экономически стабильной страной. Страной независимой - и в финансовом отношении, и в международных делах» [16].
В деятельности государства, в частности Российского, определенную роль играет принцип единства отраслевого и территориального управления, представляющий конкретное требование реализации централизма и демократии. В советской системе функционировали два конкурирующих принципа: отраслевой и территориальный. Господствовал первый — отраслевой; территориальный же в условиях жесткого централизма занимал второстепенное место. И только однажды (1958—1966 гг.) его сторонники временно одержали верх, что увенчалось созданием совнархозов — новых территориальных организаций по управлению хозяйством. Командно-административная система управления, однако, не сдала своих позиций, отраслевой принцип (управление через централизованные отраслевые министерства) был восстановлен. Этот эпизод из истории советской системы государственного управления примечателен с двух точек зрения: он показывает, с одной стороны, косность гипертрофированного государственного централизма — антипода территориальной демократии, отвергшего вполне целесообразную в тех условиях форму организации управления экономикой; с другой — продемонстрировал наличие в системе возможности демократически обсуждать назревшие проблемы, причем на всех уровнях партийно-государственной власти.
В современной России проблема соотношения отраслевого и территориального подходов в управлении связана с осуществлением федеративной формы организации государства, но не исчерпывается им. Отраслевой подход как проявление централизма неотделим от территориального как воплощения горизонтальной демократии. Поэтому следует говорить о принципе единства отраслевого и территориального управления. В официальных документах пока так вопрос не ставится. Он звучит лишь в выступлениях отдельных государственных деятелей.
Предполагается постепенно переходить от решения отраслевых задач к решению крупных инфраструктурных задач с помощью Федерального центра. Тогда укрепится экономический скелет единого государства. В эту работу нужно внести элемент плановости.
Отраслевые проблемы, разумеется, не могут быть исключены из поля зрения центральных органов управления, поскольку из отдельных отраслей производства складывается экономика страны, равно как и из различных сфер социальной жизни — общественная жизнь в целом. Например, Правительство РФ своим постановлением от 15 марта 1999 г. одобрило основные направления развития автомобильной промышленности России на период до 2005 г. и одновременно рекомендовало органам исполнительной власти субъектов РФ «учитывать основные направления» при «формировании программ развития региональных машиностроительных комплексов». Правительство, как это явствует из данного постановления, увязывает отраслевой подход в планировании развития автомобильной промышленности с региональным.
Государственное управление на уровне Федерации и ее субъектов пока строится в основном по отраслевому принципу, что подтверждается, в частности, структурой Правительства РФ. Наряду с министерствами общефедерального значения в Правительство входят специализированные (отраслевые) министерства и ведомства. Например, министерства сельского хозяйства, топлива и энергетики, транспорта, Государственный комитет по рыболовству и др. Короткий период функционировало Министерство региональной политики.
Структура целей системы государственного управления останется, скорее всего, на многие годы такой же, какая она в настоящее время: общегосударственные, региональные (особенные), местные (частные). В этой структуре найдут свое место цели, связанные с потребностями и интересами групп населения, занятых в отдельных сферах и отраслях народного хозяйства и культурной жизни. А значит, необходимость сочетания (единства) отраслевого и территориального подходов в управлении не перестанет быть актуальной задачей.
К числу организационных, системно-функциональных относятся принципы принятия государственных решений. Они обусловлены основными функциями управления и определяют содержание и структуру процесса принятия решений. Данные принципы выражают необходимость реализации функций в их единстве и последовательности. В них также фиксируются конституционные и другие нормативные установки, сформулированные в виде правил принятия решений. Назовем некоторые принципы: поэтапный процесс принятия решений; единство целей, направлений, задач, методов и средств управленческого действия; необходимость соблюдения установленных норм и единых процедур принятия решений; сочетание коллективного обсуждения и принятия решений с единоличной ответственностью руководителя, и др. Конкретному анализу принципов принятия государственных решений посвящена следующая глава.
В заключение следует подчеркнуть, что рассмотренные общесистемные принципы государственного управления характеризуют в основном систему, складывающуюся в современной России. Универсальных, одинаковых для всех стран и режимов систем управления не бывает. Некоторые общие принципы в каждой системе приобретают конкретное содержание и формы реализации. Кроме того, каждая данная система вызывает к жизни принципы, адекватные содержанию ее целей, характеру функций и социально-политическому типу правящего субъекта.
Литература
1. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. С. 187.
2. Эффективность государственного управления. С. 64.
3. Ельцин Б.Н. Выйти из кризиса, сохранив всю полноту политических и экономических свобод // Парламентская газета. 1999. 31 марта.
4. Послание Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации «России надо быть сильной и конкурентоспособной» // Российская газета. 2002. 19 апреля.
5. Там же.
6. Российская газета. 2003. 17 мая.
7. Российская газета 2004. 27 мая.
8. Мысин Н. Теория социального управления. С. 336.
9. Ключевский В.О. Соч. в 9 т. - М., 1989. Т. V. С. 281.
10.Бэкон Ф. Соч. в 2 т. М., 1972. Т. 2. С. 361.
11.Пугачев В.П. Российское государство: попытка политологического анализа // Власть. 1997. № 12. С. 13—15.
12.Матузов Н., Малько А. Указ. соч. С. 103—104.
13. Современное управление: Энциклопедический словарь. Т. 1. - М., 1997. С. 70, 71.
14. Шварценберг Р.-Ж. Политическая социология. — М., 1992. Ч. 1. С. 110-111.
15.Указ Президента РФ В.В. Путина от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» // Российская газета. 2004. 12 марта.
16.Послание Президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному Собранию РФ // Российская газета. 2003. 17 мая; Российская газета. 2004. 27 мая.
Глава 8. Государственное управление как процесс принятия и исполнения решений
Деятельность политических институтов и органов административного управления воплощается в принятии и реализации соответствующих государственных решений: политических и административных. Анализ решений — неотъемлемый аспект теории государственного управления. По типу решений, способу их разработки, уровню участия различных субъектов, в том числе массовых, можно судить о существенных признаках общественно-политической системы.
Решения принимаются на всех уровнях системы управления: на федеральном, региональном и муниципальном. Соответственно субъектами, принимающими решения, выступают органы федеральной власти, субъектов Федерации и местного самоуправления. Проблемы решений определяются потребностями и интересами управляемых ими объектов. Несмотря на различия типов и уровней решений, им присущи некоторые общие черты, характеризующие процессы принятия и реализации. Теоретический анализ включает объяснение как общих признаков, так и особенных, связанных со спецификой условий деятельности субъектов управления.
1. Государственное решение как научное понятие
Научное изучение интересующего нас явления предполагает определение его понятия. В данном случае речь идет об особом типе управленческих решений, составляющих функцию государственной власти. Государственное решение — это выбор и обоснование определенного проекта действий государственных органов, направленных на достижение общественных целей.
Следует различать политические и административные решения. Первые — концентрированное выражение политического руководства. Они подчинены осуществлению общих интересов и общих целей социальных групп либо данного сообщества. Даже если политические решения принимаются на региональном уровне или в рамках какого-то местного сообщества, они затрагивают интересы государственного союза людей, функционирование государственной власти. Административные решения представляют собой акты управленческих действий, регулирующих функционирование отдельных видов производственно-хозяйственной, социальной и культурной жизни людей и текущей практической деятельности отдельных организаций. Административные решения — функция органов исполнительной власти и управления.
Политические решения, в отличие от административных, всегда прямо или косвенно адресованы определенным общественным группам людей, служат средством регулирования отношений между ними, являются способом выражения и реализации социальных интересов и целей. Они — результат деятельности субъектов политической власти и политического руководства. В соответствии с принципом приоритетности политики в государственном управлении политические решения имеют доминирующее значение по отношению к административно-управленческим.
Государственное решение характеризуется прежде всего субъектом, принимающим решение — руководящий орган государственной власти — коллегиальный или индивидуальный — лидер; субъектом—исполнителем решения — аппараты государственной службы; объектом, которому адресовано решение — нижестоящие органы управления, социальные группы, занятые в различных сферах жизнедеятельности общества, политические и общественные объединения.
Другие характеристики государственного решения:
—авторитет решения, что означает уровень субъекта государственной власти, принимающего решение, его легитимность и обоснованность;
—диапазон решения, что характеризует политическое пространство, в рамках которого оно действует, и объем задач, охватываемый данным решением; политические решения, как правило, многоцелевые;
—информационная обеспеченность решения, т.е. информационная база его принятия, в том числе научная;
—технология и стиль принятия решения — совокупность методов и приемов подготовки и принятия решения, способов получения и восприятия информации, необходимой для решения, порядок и характер обсуждения альтернативных вариантов проектов и определения приоритетных из них; подходы при формулировании целей и при выборе средств для их осуществления;
—типы принятия решений — демократический или авторитарный;
—практическая значимость решения.
Государственные решения группируются по многим основаниям. В частности: по уровню субъектов в системе государственной власти и управления — решения федеральных, региональных и местных органов; по характеру целей и задач — решения политические или административные, руководящие и исполнительские, стратегические или оперативно-тактические, общегосударственные или относящиеся к отдельным областям государственной жизни; по сферам жизнедеятельности общества — решения хозяйственно-экономические, социальные, по проблемам государственного строительства и управления, культурного строительства и пр.; по масштабам охвата объекта управления — решения общесистемные, общеполитические, макроэкономические, микросоциальные (относящиеся к отдельным группам производственно-экономических и социальных коллективов); по управленческим функциям — вопросам планирования, организации, контроля и др.
Примерами политических решений служат: государственные программы, социально-экономические, социально-политические концепции и военно-стратегические концепции, законодательные акты конституционного характера, принятые Федеральным Собранием РФ, указы Президента России по общим вопросам деятельности государства и др. В числе административно-управленческих решений следует назвать постановления Правительства России, а также приказы и распоряжения министерств и ведомств.
Решения на региональном уровне формулируются в виде законов, принимаемых представительными органами власти, конституций республик, уставов областей, краев, постановлений глав администраций субъектов Федерации и др. Они могут быть как политико-правовыми, так и административными актами.
Административные решения федеральных правительственных органов и субъектов Федерации могут нести в себе политический аспект в той мере, в какой они выступают средством реализации общефедеральной политики или Основного Закона государства. И вообще подчеркнутое нами различие между политическими и административными решениями относительно, поскольку, как говорилось, государственное управление по природе своей явление политическое. Политика же — определяющий уровень (в смысле значимости) управления. Это признается и отдельными зарубежными авторами. Например, французский политолог М. Понятовский разделяет руководство общественными делами на три уровня: политика — означает, что делать и почему; исполнение — как делать и при помощи чего; администрирование — подсобное средство [1].
2. Выбор целей — определяющее звено процесса принятия решения. Приоритетность политического выбора
Управленческие решения (политические или административные) по сути своей сводятся к действиям по осуществлению избранных целей. Выбор целей — отправной пункт в разработке и принятии любого решения.
Цель — элемент мыслительной деятельности управляющего субъекта; внутренний побуждающий мотив действия. Будучи идеальным образом желаемого результата управляющего воздействия государственного субъекта на объект (общество, отдельные социальные группы, индивиды), цель формируется под влиянием господствующих ценностей, выражает определенный замысел, идею, аккумулирует известные знания об управляемой системе и данные опыта управления. Цели разнообразных текущих решений исполнительных органов мотивируются установками вышестоящих организаций, здравым смыслом управляющих и повседневными потребностями людей.
Субъект государственного управления имеет дело с объектом, характеризующимся безграничным диапазоном разнообразия. Искусство управления и состоит в том, чтобы реализовать принцип необходимого разнообразия, найти, как отмечалось, баланс разнообразий субъекта и объекта (общества). Эта задача решается при выборе целей. Множество проблем, с которыми сталкивается управляющий орган, обусловливает многоцелевой характер государственных решений, что требует распределения целей по значимости и по времени реализации. Отсюда задача построения иерархии целей. Точнее говоря, — «ветви» целей, ибо решение может быть подчинено реализации одновременно двух и более равнозначных целей.
Управленческие цели классифицируются по многим основаниям: по уровню на шкале общественно-политических ценностей — высшие цели и цели обыденной практики; по степени общности
—общенародные (общегосударственные), национальные, классовые, групповые (корпоративные), коллективные, индивидуальные; по значимости сфер жизнедеятельности общества — экономические, социальные, политические, культурологические, конфессиональные; по временным параметрам — долгосрочные, среднесрочные, краткосрочные, текущие; по актуальности — требующие безотлагательного осуществления, независимо от ситуации и актуализированные сложившейся ситуацией; по достижимости
—реально достижимые и возможно (теоретически) выполнимые, и т.д. Ранжирование целей — неотъемлемый, существенный аспект разработки решений.
Типология целей предопределяет различие видов решений. Общенародные, общегосударственные, долгосрочные цели реализуются в политических решениях руководящих органов государства, в форме общих политических стратегий. Экономические, социальные и другие цели, связанные с функционированием и развитием отдельных сфер деятельности общества, составляют рациональную основу соответствующих политик. Краткосрочные, текущие цели претворяются в административных, оперативно-тактических решениях. Проблемы и цели регионального и местного масштабов получают отражение в решениях органов власти и управления соответствующих уровней.
Основу государственного управления составляет государственная политика. Политическое руководство — высший уровень (по значимости) управления. Поэтому сердцевину государственного решения в его обобщенном, типологическом понимании образует выбор политического курса — государственной стратегии.
Политический выбор — это определение общих долговременных целей, основных задач деятельности государства на данном историческом этапе его существования и развития.
Из многих общих целей прежде всего выделяются высшие для государства, по сути безальтернативные: а) установление и поддержание определенного типа политической системы и соответствующего ей политического режима; б) сохранение единства общества как основы существования данного государства; в) формирование и реализация общих ценностей и удовлетворение общих интересов населения; г) обеспечение безопасности государства и общества; д) обеспечение взаимосвязей с внешним миром, с другими государственными образованиями. Эти цели, выражающие главные функции государства, образуют ядро общей государственной политики как основы управления обществом. Все другие цели и стратегии так или иначе, прямо или косвенно определяются ими, выступающими в качестве базовых по отношению к системе государственного управления в целом.
За пределами базовых целей-ценностей, т.е. тех, реализация которых составляет объективное условие существования государства, открывается поле многообразия выборов для целенаправленной деятельности его органов и институтов. Управляющая и управляемая системы (государство и общество) образуются из многих подсистем, имеющих свои интересы и цели, которые они стремятся осуществить. Как система, так и подсистемы претерпевают изменения в силу внутренних причин и под воздействием внешней среды — международных, геополитических и природных условий. Социуму свойственны противоречивые тенденции перемен, конфликтность общественно-исторических процессов. В каждой ситуации общество как объект управления многопроблемно. Да и государство тоже. Данное состояние того и другого объективно заключает в себе набор возможных перспектив преобразований, альтернативных вариантов государственного и общественного строительства.
Субъект государственного руководства сталкивается также с естественной для общества конфликтностью социальных потребностей, общественных интересов и ценностей. Из многих групп конкурирующих интересов ему приходится выделять наиболее общие и жизненно важные для всех социальных слоев населения, для социальной системы в целом.
Руководящий субъект действует не в вакууме, а на рынке альтернативных политических идей и ценностей, носителями которых выступают конкурирующие с ним политические силы. Здесь предложение, как правило, превышает спрос. Потребитель — общество, социальные группы, граждане — воспринимает только то предложение, которое в большей мере отвечает его интересам и целям. На эти запросы и ориентируется управляющий субъект.
Политический выбор — не одноразовый акт, а процесс борьбы одних политических сил с другими за признание интересов представляемых ими групп в качестве общих, доминирующих, а целей, идей и ценностей — приоритетных. Выбор целей при принятии государственного решения, в частности политического, мотивируется в первую очередь интересами влиятельных (доминирующих) общественных групп или большинства общества. Проблемы, служащие непосредственным толчком к принятию решения, всегда выступают формой выражения противоречия между общественными потребностями и интересами, с одной стороны, и наличными условиями, в частности ресурсами, необходимыми для их удовлетворения, с другой. Цели же — это форма осознания управляющим субъектом социально значимых актуальных проблем.
Фактор интересов в политическом выборе играет определяющую роль, что объясняется природой этого социального явления. По своей сущности интересы есть осмысленные и ценностно интерпретированные субъектом его объективные потребности. Они причина любой формы активности людей и выражаются в целях, мотивах, ориентациях, ожиданиях и других явлениях. Интересы, осознанные и признанные социальными общностями и государством, составляют группы общественно-классовых, национальных, государственных. Последние служат сплочению общества, сохранению целостности и стабильности государства, выступают постоянной движущей силой общественных изменений.
Трактовка интересов в теории социального управления неоднозначна. Во-первых, в плане признания или отрицания реальности общих (национальных, государственных) интересов. Некоторые зарубежные и отечественные ученые отрицают существование общих, в том числе национальных, интересов. А если и допускают реальность таковых, то считают их «минимальными», не являющимися решающими при определении государственной политики. Так рассуждает, в частности, американский социолог Ф. Фукуяма. Отечественный автор В.П. Макаренко вообще отвергает тезис о существовании общих интересов, стоящих выше групповых и классовых. Он пишет, что реально существуют лишь групповые интересы. При этом ссылается на американских ученых и на якобы неспособность американского правительства предложить политические изменения во имя «общих интересов» и общего блага [2]. Ссылка автора некорректна. Как свидетельствует профессор Б. Мильнер, перестройка исполнительной власти, предпринятая в США за последние годы XX в., ориентирована на то, чтобы она могла «концентрироваться на результатах и делать все возможное для достижения национальных целей» [3]. Национальные цели и есть выражение национальных, т.е. общих, интересов.
Во-вторых, высказывается точка зрения, согласно которой «исходным, первичным» политическим выбором, определяющим действия органов государственной власти, «является выбор индивида», а интересы избирателей, партий и т.д. вторичны [4]. Мы не разделяем это мнение, интерпретирующее позицию либерализма. В науке управления известен принцип, сформулированный французским бизнесменом А. Файолем (1916 г.). «Подчиненность личных интересов общим. Интересы организации имеют приоритет перед интересами отдельной личности». Этот принцип, как правило, не подвергается сомнению и теперь, о чем свидетельствует факт его воспроизведения в фундаментальном труде американских ученых и бизнесменов [5].
Принцип приоритета общих интересов над индивидуальными классик относил к управлению экономикой. Его следует использовать и при разработке политического решения, ибо государство — тоже организация, хотя и особого рода; это система организаций, создаваемых для защиты и осуществления прежде всего общих интересов. Что касается личных интересов, то они могут быть реализованы лишь на основе осуществления общих. Нетрудно, к примеру, понять, что законные требования работников бюджетной сферы и пенсионеров России будут систематически удовлетворяться только при наличии у государства и у субъектов Федерации соответствующих средств. А для этого нужно развивать реальный сектор экономики, улучшать систему налогообложения и ее действенность и т.д., словом, все то, что составляет в настоящее время содержание приоритетного государственного интереса. Тем не менее личный интерес не есть нечто второстепенное по сравнению с общегосударственным, равно как не является самодостаточным.
Общие интересы могут трактоваться превратно. Более того, за общие интересы нередко выдаются узкоклассовые, корпоративные, ведомственные или интересы бюрократического аппарата.
За последние годы в стране сформировался групповой и национально-территориальный эгоизм, на почве которого прорастает сепаратизм. Эти и другие явления накладывают свой отпечаток на общегосударственные решения. Тем не менее, не могут перечеркнуть главного: основные цели политики определяются общими интересами. Необходимость адекватного понимания общего интереса — предмет внимания политиков западных демократических государств. Например, о зависимости политического решения от «более или менее беспристрастного толкования интересов общества» пишет известный французский политический деятель М. Рокар [6].
В-третьих, признав общие интересы фактором, определяющим политический выбор, нужно выяснить их состав, обосновать жизненную важность тех или иных видов интересов: экономических, политических, социальных и др. Решение данного вопроса — главная предпосылка выбора целей политической стратегии. Для современных политиков России — это весьма важный аргумент в борьбе за массы избирателей.
Анализ современного состояния российского общества выявляет основные группы интересов: комплекс интересов личности, связанных с потребностями реального обеспечения ее конституционных прав и свобод; группы общественных интересов различных слоев трудящихся, детерминируемые неудовлетворенностью условиями жизни и труда; интересы бурно развивающегося класса финансово-промышленного капитала; интересы национальных общностей, обусловленные существенными различиями в уровнях развития регионов; группа общегосударственных интересов, выражающих потребности в создании и укреплении либерально-демократической политической системы, обеспечения и сохранения суверенитета и целостности Российского государства, определения системного кризиса и т.д.
В нынешней ситуации нелегко выделить приоритетные группы интересов. А для политического руководства — это задача первоочередная. От ее решения зависит выбор целей политики. В данном случае может помочь анализ противоречий, выявление основной зоны конфликтов.
Наше общество характеризуется наличием разнородных противоречий и конфликтов: социальных, экономических, политических, межнациональных, между Федеральным центром и субъектами Федерации, идеологических и пр. Определяющей линией конфликта выступает антагонизация социально-экономических и политических отношений, обусловленная углублением социальной дифференциации общества и социального неравенства. Язык классового конфликта временами начинает звучать все громче в недовольстве большинства населения, оказавшегося у черты или за чертой бедности, в возмущении вопиющей социальной несправедливостью, выраженной в том, что расслоение общества по доходам превысило показатели, предельно допустимые для стабильных государств. Но основная линия социальной напряженности, согласно социологическим исследованиям, нередко проходит не между классами, а между государственной властью на всех ее уровнях и основной массой населения. Этот факт требует сделать акцент на первостепенной важности совершенствования политического руководства, изменения как некоторых стратегических установок, так и методов действия государственных органов законодательной и исполнительной власти.
Очевиден раскол общества по политическим и идеологическим взглядам и ценностям, что подтверждается постоянной острой политической и идеологической борьбой в обществе. «Большая головная боль» у государства — межнациональные противоречия и конфликты. К сказанному нельзя не добавить периодически сотрясающие страну чрезвычайные события: стихийные бедствия, технологические и экологически катаклизмы и др.
Описанные противоречия не исчерпывают все множество проблем, встающих перед политическим руководством государством. Обширные пространства России; огромные различия в уровнях развития регионов; меняющаяся социальная структура и политическая палитра региональных сообществ; широкий диапазон последствий проводимых реформ — от катастрофических последствий до положительных — и зависящего от этого отношения большинства населения к правящему режиму — эти и другие факторы свидетельствуют о том, сколь необходим учет всех обстоятельств и связанных с ними проблем при выборе целей и политических стратегий.
К сказанному следует добавить еще один существенный момент: проблемы самого правящего совокупного субъекта. Он неоднороден по своему составу, интересам и политическим позициям. Основной причиной, не позволившей последовательно и эффективно осуществлять реформы преобразования в стране, как не раз отмечалось в своих ежегодных посланиях Президента РФ Федеральному Собранию России, является отсутствие общественного согласия и единства власти, консолидации и мобилизации интеллектуальных сил, соединенных усилий органов власти, гражданского общества, всех людей в стране [7]. Не все могут согласиться с данным выводом главы государства относительно «основной причины». Однако влияние отмеченного фактора — общественного согласия и единства власти — на деятельность государства бесспорно.
Таким образом, выбор политических целей как первоначального определяющего этапа разработки стратегии обусловливается многими переменными. Обоснованность политического выбора в решающей степени зависит от того, насколько учтены факторы, действующие на управляющую систему. Выбор рационален, цель разумна, если: а) выражает интересы большинства населения и соответствует базовым ценностям данного общества (страны); б) выбор осуществлен на основе научного анализа и оценки особенностей конкретных условий и адекватной оценки влияния временного фактора (своевременности решения); в) выбор сделан с учетом уровня развития управляющей и управляемой систем (государства и общества или его части), а также ресурсного потенциала, необходимого для достижения стратегических целей и решения стратегических задач; г) выбор мотивирован положительным долгосрочным прогнозом; д) выбор принят (с ним согласны) основными социальными группами, ведущими политическими силами.
Перечисленные требования, укладывающиеся в демократические принципы формирования государственной политики, блокируют возможное доминирующее влияние на политический выбор индивидуальных субъективных качества лидеров — высших руководителей: властолюбия, предрасположенностей, темперамента, воли, моральных качеств и т.п. Исключить вообще влияние на процесс выбора этих явлений невозможно, но вполне реально его минимизировать и тем самым ограничить роль случайности при принятии решений, имеющих значение для судеб народа. Вполне естественны поэтому высокие требования, предъявляемые государством к своим лидерам. Например, в числе причин отрешения от должности президента США предусмотрено нарушение нравственности. Не мешало бы и российскому законодателю принять такую норму.
Цели лишь в общих чертах обозначают направления процесса действия государственного субъекта (органов власти и управления) и абстрактно возможные средства для их осуществления. Последующий этап — это формулирование общегосударственной долгосрочной стратегии. Цели конкретизируются в совокупности задач, планируемых к последовательному решению; обрисовываются общие контуры и стадии предполагаемых изменений общественной системы и ее отдельных частей; характеризуются главные средства, методы и социальные агенты деятельности для достижения избранных целей. Основополагающая идея стратегии, ведущий замысел — ее концепция. Последняя определяет приоритетную цель государственной политики, ее направления и комплекс задач, решаемых в рамках этих направлений.
Первостепенное значение для выработки концепции государственной политики и в целом стратегии имеют научно обоснованное определение особенностей исторического периода развития страны, учет условий, в которых действует руководящий субъект. Трудность и искусство политики во многом состоят в учете своеобразия задач каждого из периодов общественного развития, особенностей условий и деятельности правящего субъекта. Ничего другого, кроме провалов в политике, не сулит игнорирование специфики модернизации нашего общества, состоящей, в частности, в ошибочном определении нулевых стартовых рубежей преобразований, отбросившем достижения страны в советский период. Придется вновь ставить и решать те задачи, которые уже были решены ранее, восстанавливать разрушенные универсальные связи и структуры во многих сферах жизни, в том числе в политической, в общественных отношениях. Начавшаяся работа правящих кругов по проблеме восстановления единой вертикали власти — тому подтверждение.
Все большим пониманием важности общих интересов государства и общества, их адекватного определения и реализации проникается и руководство нашей страны, особенно в первые годы нового столетия. Так, выступая с Посланием Федеральному Собранию в мае 2003 г., Президент РФ В.В. Путин говорил о том, что Россия не сможет противостоять стоящим перед ней серьезным угрозам, если наше общество разбито на мелкие группы, если мы будем жить узкими, только своими групповыми интересами, если не произойдет в стране консолидации хотя бы вокруг базовых общенациональных ценностей и задач. Определяя эти базовые ценности, цели и задачи, Президент РФ В.В. Путин в своих Посланиях Федеральному Собранию 2002 и 2004 гг. говорил, что наши цели неизменны — демократическое развитие России, становление цивилизованного рынка и правового государства и самое главное — повышение уровня жизни народа. Необходимо сделать Россию процветающей и зажиточной страной, чтобы жить в ней было комфортно и безопасно, чтобы люди могли свободно трудиться, без ограничений и страха зарабатывать для себя и своих детей [8]. Конкретизируя стоящие перед Россией задачи, без решения которых невозможно сохранение страны, в Посланиях 2003 и 2004 гг. В.В. Путин выдвигает в числе важнейших следующие: увеличение за десятилетие валового внутреннего продукта в два раза; обеспечение значимого роста благосостояния граждан, безопасной и комфортной жизни в стране, обеспечение граждан качественным и доступным жильем, образованием, медицинским обслуживанием; преодоление бедности; создание зрелой демократии и развитого гражданского общества; усиление позиций России в мире; модернизацию Вооруженных Сил. При этом подчеркивается, что без сильной и ответственной власти, основанной на консолидации общества, невозможны сохранение страны и ее прорыв в будущее. Основой для решения стоящих перед страной приоритетных задач и достижения жизненно важных для ее существования и развития целей являются в настоящее время консолидация общественных сил, незыблемость Конституции Российской Федерации и гарантированных прав и свобод граждан. Необходимы консолидация всех интеллектуальных, властных и нравственных ресурсов страны, всех наших усилий, выработка общих подходов и согласование конкретных планов [9].
На основе общего стратегического направления разрабатываются стратегии и программы экономического и социального развития, формулируются политики в других областях общественной жизни. Так, российское политическое руководство, не отступая от избранного курса на коренное реформирование экономики и общества в направлении перехода к рыночной демократии, нацелено ее лидером (Президентом РФ) на разработку и утверждение долгосрочной стратегии экономического развития России. В плане этой установки сформулированы «общие требования» к политике: реалистичность, ответственность государства за безусловное выполнение взятых на себя бюджетных обязательств; жесткость бюджета, необходимость перенесения в политике акцента на увеличение доходов за счет более решительного осуществления мер по легализации частнопредпринимательской инициативы; необходимость детализации целей политики, чтобы можно было судить о подлинной ее результативности. Обозначены другие отправные положения бюджетной политики, касающиеся доходов и расходов, политики в области бюджетного дефицита и внешнего долга, а также межбюджетных отношений. Предложено, в частности, продолжить работу по реформированию межбюджетных отношений и осуществить переход к подлинному бюджетному федерализму. Его суть — максимально возможная бюджетная независимость субъектов Российской Федерации. Не задача авторов оценивать изложенные политические установки. Наша цель иная — проиллюстрировать общую схему и характер разработки стратегий, составляющих сердцевину деятельности государственной управляющей системы.
Общий стратегический курс государства конкретизируется также в среднесрочных и краткосрочных программах Правительства. Характерной особенностью проводимой работы является предварительное формирование прогноза социально-экономического развития на перспективу, его параметров в связи с прогнозом основных характеристик и структуры доходов и расходов федерального бюджета. Прогнозирование, таким образом, выступает базой разработки среднесрочной программы.
Следует отметить некоторые теоретически значимые моменты данного прогноза. Во-первых, комплексный подход в разработке общего прогноза социально-экономического развития. С участием ряда министерств и ведомств — экономических, финансовых, федеральных органов исполнительной власти предполагается определить параметры прогноза социально-экономического развития и прогноза основных характеристик и структуры доходов и расходов федерального бюджета на перспективу. Прогнозируемые показатели обозначаются понятием «сценарные условия» функционирования экономики и социальной сферы. Они включают основные макроэкономические показатели, целевые параметры, приоритеты социально-экономической политики, показатели занятости населения и др. Во-вторых, разработка на основе общих прогнозных сценариев вариантов прогнозов развития отраслей экономики и социально-экономической сферы в субъектах Федерации; в-третьих, увязывание с параметрами общего прогноза федеральных целевых программ; в-четвертых, обеспечение прогнозных показателей необходимой статистической информацией.
Общий стратегический курс государства, долгосрочные и среднесрочные стратегии и программы развития отдельных сфер жизнедеятельности общества, конкретные правительственные целевые программы — все это виды политических решений. Они существенно различаются по своей значимости и роли в системе государственного руководства и управления. Однако сходство их в том, что они образуют общие условия и определяют общее направление деятельности системы государственных органов. Это — политические решения высшего уровня, программного характера. Все другие решения, будь то политические или административные, рекомендательно-ориентирующего или директивно-распорядительного плана, являются по сути производными от стратегически программных; выполняют роль государственного механизма реализации последних.
Разработанная руководством государства политика выполнит свою ведущую роль при условии, что она будет оформлена юридически, т.е. институционально. Только при наличии институционального контроля над властью политика может быть реализована и осуществлен прогресс (Парсонс).
Политические решения стратегического характера принимаются в большинстве своем коллективными представительными органами или от их имени лидерами — высшими должностными лицами. В современных демократических государствах проекты таких решений подготавливаются в политических штабах правящих партий, в коллегиях типа Совета безопасности или узким кругом политической элиты. Конституцией РФ не предусматривается каких-либо иных политических институтов, кроме избираемых народом парламента и президента страны — главы государства. Отсутствие у парламента права принимать политические решения, выходящие за рамки законодательной деятельности, а у партии, получившей на выборах большинство парламентских мандатов, — права формировать правительство, создает ситуацию, далекую от правовой. В подготовку и даже принятие важных политических решений вмешиваются чиновники обслуживающего президента исполнительного аппарата и даже руководители ведущих телекомпаний. Все громче заявляют о себе как о политической силе лидеры крупного финансово-промышленного капитала.
3. Последовательность этапов принятия решений
В рамках избранного общего политического курса перед управляющим субъектом объективно предстает множество проблем, требующих своего решения в различные отрезки времени. Подготовка каждого конкретного решения начинается с выявления в данной ситуации проблем и формулирования соответствующих целей. Симптомы (признаки, проявления) проблемной ситуации разнообразны. В том числе неудовлетворенность определенных потребностей и интересов тех или иных слоев населения; снижение трудовой и политической активности граждан; возникновение и обострение конфликтов между общественными группами и слоями; возникновение и рост недоверия общества к властям, и т.д. Восприятие управляющими органами симптомов проблем — первый шаг на пути их понимания. Прояснение проблем и причин, их породивших, осуществляется путем анализа состояния отдельных участков жизни общества и государства. Только конкретный анализ дает возможность определить существо проблем и выделить из них приоритетные, а соответственно и сформулировать первоочередные цели деятельности управляющего субъекта.
Цели конкретных решений должны быть актуальными, приоритетными, конкретными, четко сформулированными, отражающими интересы управляемых и не противоречащими интересам управляющих.
Постановка цели не исчерпывает акта выработки и принятия решения. Как только цель определена, пишет американский теоретик управления и промышленник Д. Марш, можно приступить к выработке «маршрута продвижения к поставленной цели». Теория и практика управления обозначили следующие рубежи (этапы): 1) выбор из существующих, альтернативных, проекта, соответствующего целям, а также принципам и нормам, свойственным данной государственной системе; 2) анализ избранного проекта в плане вероятных последствии его реализации (включая экспертизу проекта); 3) планирование и разработка проекта; 4) определение конкретных исполнителей; 5) избрание способов, средств и методов осуществления проекта.
Та или иная цель однозначно не определяет направление и способ действия (проект), а предполагает альтернативные варианты (модели проекта) ее достижения. Это объясняется как внутренним разнообразием управляющей системы, так и свойствами управляемого объекта. Кроме того, при выборе конкретного проекта субъекту необходимо иметь в виду независимо от ситуации две цели: цель действия данного органа управления и долгосрочную цель политики государства. Первая может быть краткосрочной, среднесрочной, поставленной центральным органом управления или нижестоящими органами. Она относится к отдельным или многим общественным процессам и в любых ее моделях действует в поле общей стратегии, общего политического курса. Это поле обозначается ценностно-нормативными критериями выбора альтернативных проектов. Скажем, каждый руководитель региона ставит перед собой и добивается реализации определенных целей в области экономики, социальной и политической сферы. Интересы государства, а стало быть, в конечном счете, и долгосрочные интересы самих же регионов, будут соблюдены, и действия их высших должностных лиц не выйдут за пределы единой системы управления при условии согласования целей региональных решений с общими, стратегическими целями. Нарушение данного условия порождает в государстве состояние неуправляемости.
Чем выше уровень разрабатываемого решения, чем оно более значимо с точки зрения государственных интересов, тем большая зависимость выбора проекта от политических целей, тем важнее соответствие проекта стратегии государства.
Было бы, однако, ошибкой считать, что стратегический подход при отборе альтернативных проектов во всех случаях является политическим. Понятие стратегии в современной науке управления имеет и другой смысл: обозначение ориентации управляющего субъекта на конечную цель деятельности организации. «Мыслить стратегически» — одно из основных требований, предъявляемых к руководителю (да и не только) современным менеджментом. «Стратегическое мышление... означает, что вы думаете и действуете, помня все время о конечном результате» [10].
При выборе альтернатив учитываются проработанные прогнозные сценарии. Предвидение не является монополией политиков, разрабатывающих долгосрочные стратегии. С точки зрения современной теории, способность предвидеть — необходимый элемент стратегического мышления управляющего. «Предвидение — это энергия, которая поддерживает движение». Прогнозный сценарий раскрывает содержательную картину цели; он дает возможность понять руководителям и подчиненным, во имя чего принимается решение, как действовать по осуществлению избираемого проекта. Прогноз предупреждает о возможных негативных последствиях избранной цели, но прежде всего заставляет сосредоточивать внимание на реализации открывающихся перспектив преобразований. Прогноз позволяет оценить инновационный потенциал проекта, осмыслить возможные препятствия на пути его использования.
Экспертиза (оценка специалистов) — следующий необходимый элемент процедуры выбора проекта. Исследуемый проект в большинстве случаев многоцелевой, затрагивающий совокупность общественных отношений и процессов. Ведь речь идет о проекте государственного решения. Поэтому необходимы экспертизы политическая, финансово-экономическая, социальная и юридическая. Отмечая потребность в политической экспертизе, мы далеки от вульгарной политизации любого решения. В проверке и оценке соответствия политическим интересам и ценностям нуждаются проекты решений руководящих органов (центральных и региональных), а также наиболее значимые для общества административно-государственные варианты управляющих действий. Экспертиза специалистов по экономике и финансам требуется для тех проектов, исполнение которых связано с затратой материальных ресурсов. Известно, что многие руководители, даже государственные учреждения высокого уровня, из популистских соображений принимают решения, не подкрепленные реальными ресурсами. Объективная финансово-экономическая экспертиза — неплохая защита государства от подобных «новаций».
Особо следует остановиться на специфике социальной экспертизы. С учетом универсального характера социальной функции государства и требований современной теории управления, рассматривающей человеческий фактор как важнейший в управлении, социальная экспертиза должна носить всеобщий характер. Ее суть — в оценке проекта по крайней мере в двух аспектах: а) его соответствия установкам государственных социальных программ; б) в плане гуманистического потенциала, в частности создания условий для участия управляемых в принятии решений. Понятие «участие» означает возможность влиять на принятие решений. Оно заключается в том, чтобы объединить усилия членов организации (коллектива, сообщества) для выявления и решения проблем [11].
Наконец, о юридической экспертизе. Она необходима для проектов любых решений. Всякое управленческое воздействие государственных субъектов на управляемых должно быть легитимно. Правовое обеспечение решения — гарантия его реализации.
В государственном управлении принципиально значимы механизмы выбора как целей, так и проектов их реализации, ибо и то, и другое предопределяет принятие решения. Под механизмом мы понимаем нормативно установленные процедуры выбора. Это состав участников данного творческого действия; формы обсуждения альтернативных проектов и согласования с заинтересованными органами и отдельными субъектами, в том числе частными лицами; виды экспертизы и порядок привлечения экспертов и др. Наличие нормативно отработанного механизма необходимо как в принятии стратегических политических, так и административных решений. В противном случае возникает реальная опасность волюнтаристского выбора проекта.
Следующий этап принятия решения — планирование и разработка проекта. Он рассматривается в качестве одного из «шагов» на пути разработки решений в варианте управления государственным сектором экономики, предложенном американскими учеными [12].
В отличие от некоторых отечественных экономистов и социологов, поспешивших отказаться от понятия планирования как функции государственного управления, в зарубежной науке и практике управления данное понятие давно занимает прочное место. В концепции функционального управления, господствовавшей в 1920—1970 гг., планирование — это процесс, когда «формулируются цели и разрабатываются стратегии их достижения». «Когда выбрана стратегия, определяются политика, процедуры и программа ее осуществления. Планирование необходимо на всех уровнях организации. Планы нижних уровней должны быть совместимы с общим планом организации» [13]. «В теории управления наших дней планирование определяется также в качестве одной из «ролей управляющих», наряду с «составлением бюджета, распределением ресурсов» и пр. [14]. Российские авторы, исследующие проблемы государственного управления, относят планирование к числу главных функций управления. Как правильно замечает Г. Атаманчук, отказ от планирования означает отказ от целеполагания в государственном управлении.
В рамках анализируемого этапа принятия решения планирование включает конкретизацию целей, масштабов и задач, распределение функций и времени выполнения проекта, а также определение конкретных его исполнителей. Под разработкой проекта понимается согласование участниками его подготовки целей и намечаемых плановых показателей. Выделяется как самостоятельный «шаг» в работе над проектом «сбор данных по проекту». Предусматривается максимально широкий охват ценной информации: базы данных, в первую очередь статистических, результатов опроса представителей заинтересованной части населения, опросы членов и клиентов данной организации, материалы специальных консультаций.
При разработке и принятии программ широко используется метод общественно-политической диагностики (от лат. — распознавание).
Умный государственный деятель не примет серьезных решений, не одобрит общественно значимых программ без диагностической проработки соответствующего проекта. Основные цели диагностики: а) выявление ресурсов государственной власти и управления, определение наличия у руководящих органов материального, социального, политического, символического, информационного капиталов, необходимых для реализации разработанного стратегического курса; б) просчитывание возможных последствий осуществления программ.
Политика во многом субъективна, поскольку формулируется и осуществляется субъектами, руководствующимися своими представлениями о ее целях, своим пониманием общественных интересов и средств проведения. Однако субъективное начало не перерастает в субъективизм и волюнтаризм, если информационным фундаментом политики служит всесторонняя объективная информация о состоянии управляющей системы и управляемого объекта, о внешней среде, характере ее влияния на то и другое, если ее формированию предшествовали глубокий анализ конкретной социально-политической ситуации и диагностика проектов. Выбор средств, соответствующих целям — составная часть разработки решения. Понятие «средство» в связи с понятием «цель» в современной теории управления встречается нечасто. Содержание его не определяется. Отдается предпочтение таким терминам, как «ресурсы», «капитал», «рычаги власти» и др. Думается, что все они могут быть подведены под более общее понятие, каким является «средство», обозначающее способ, орудие или иные предметы и явления, используемые для достижения целей.
Проблема цели и средства — традиционная для теории деятельности вообще и теории и практики управления в частности. Возможны по крайней мере три варианта взаимодействия цели и средств управления. Оптимальный — данные средства обеспечивают достижение цели; его противоположность — избранные средства оказываются недостаточными для реализации цели. Третий — средства не соответствуют характеру цели; их использование приводит к результату, противоречащему цели.
Разрушительна для государства такая модификация третьего варианта, в которой целью оправдывают любое средство, нужное для ее достижения. В этом случае цель и средство меняются местами: средство фактически становится самоцелью, а цель превращается в мотивацию произвола при определении средства. Подобный подход при выборе модели системы «цель — средство» чаще всего практикуется политиками авторитарного толка. К примеру, под благовидным предлогом (с целью) «укрепить руководство» какой-то государственной структурой смещается с занимаемой должности ответственный государственный чиновник, оказавшийся неугодным высшему начальству. Аргументы и средства компрометации — любые, вплоть до клеветы и возбуждения уголовного преследования. Усилия вдохновителей и исполнителей таких кадровых решений переключаются с продекларированной цели («укрепить руководство») на поиск подходящих средств для достижения подлинного намерения. Руководитель при этом фактически преследует двоякую цель: видимую (для руководимых) и скрытую — действительную — мотивированную своим корыстным интересом. Всякие тайные цели оправдывают любые средства. Цель, для которой требуются «неправые средства, не есть правая цель» (К. Маркс). Но и неправые средства деформируют «правую» цель. Поэтому к выбору средств должны предъявляться такие же требования, как и к выбору целей. За исключением одного: средством не может быть человек, он может быть только целью.
Выше отмечалась необходимость учета фактора времени в стратегических политических решениях. Его роль не менее важна при принятии краткосрочных и даже текущих, в первую очередь, политических, в также важных административных решений. Как поспешность, так и промедление с принятием решений обрекает субъекта на неуспех. «Промедление смерти подобно», «Поспешишь, людей насмешишь», — эти афоризмы из политической и народной мудрости отражают истину, подтвержденную историческим опытом. «Момент принятия решения, — пишет У. Ханна (США), — играет исключительно важную роль, и ключевым моментом является его выбор» [15]. Вопрос о выборе времени встречается на каждом этапе принятия решения, что объясняется постоянно меняющейся ситуацией, в которой действует управляющий субъект. Принцип ситуационного подхода при принятии решений включает выбор времени как важнейший его элемент.
Принятие решения — функция руководителя данного государственного органа при участии членов организации. При этом члены организации должны выполнять различные роли, пишет профессор Нью-Йоркского университета Д. Занд, «иметь полномочия для принятия решений, располагать нужной для этого информацией и профессиональной компетенцией» [16]. Степень участия зависит от того, как руководитель ведет себя при принятии решений. Он может пригласить сотрудников для участия на одном или нескольких этапах принятия решений, в том числе при предварительном определении проблем, уточнении целей, разработке альтернативных вариантов и др. Если подчиненные влияют на принятие решения, подчеркивает автор, то «появляется большая вероятность, что они поймут его, согласятся с ним и включатся в его выполнение» [17]. И добавим: участие — фактор, способствующий увеличению степени рациональности решения. Индивидуальная ответственность руководителя за принятое решение при этом не снижается. Известный с прошлого века тезис «Управление — работа одного человека, обсуждение — работа многих», — остается аксиомой до наших дней.
Различие между принимающим решение и участниками принципиально важно с точки зрения определения меры ответственности. Расхожий в прошлом тезис «Все принимают — никто не отвечает» служил оправданием безответственности некоторых представительных органов власти и управления. Он и поныне служит прикрытием популистских, обреченных на провал решений коллегиальных институтов. Ответственность за принятое решение несут руководящий субъект и участники, однако мера ее несопоставима. Тот, кто наделен государственными полномочиями принимать соответствующие решения, прежде всего и главным образом отвечает за их качество и последствия. Единство полномочий и ответственности — непременное требование, предъявляемое к субъекту любого уровня иерархической структуры власти и управления. Данное требование нарушается, если члены управляющей организации не выполняют предназначенные им роли (отмеченные выше).
Наиболее часто складываются следующие негативные ситуации принятия решений.
1. Принимающий решение не имеет на то полномочий. Это заместители руководителя, его помощники, консультанты и пр., а также « теневые» политики из числа ближайшего окружения руководителя, включая членов семьи, влиятельные лоббисты, представляющие группы обладателей капитала, монополистов СМИ, лидеры крупных политических партий и других общественно-политических объединений. Российский опыт последних лет зафиксировал примеры участия в принятии политических решений отдельных ведущих международных финансовых организаций. Обстоятельства, порождающие подобные явления, в основном заключаются, во-первых, в отсутствии достаточной правовой базы, определяющей порядок принятия государственных решений и блокирующей вмешательство в него субъектов, не наделенных необходимыми полномочиями; во-вторых, в пороках системы управления, в частности, распределения властей и полномочий; в-третьих, в несоответствии руководящего субъекта (его профессионального уровня, политической культуры, воли и прочих субъективных качеств) занимаемой государственной должности.
2. Принимающий решения имеет полномочия, осознает свою ответственность за решения, обладает руководящей волей, но не располагает нужной информацией для адекватного управленческого действия вследствие отсутствия или неудовлетворительной работы информационно-аналитической службы. Другие причины: неполнота или даже искаженный характер официальной информации, положенной в основу решения; дезинформация организации определенными органами; ограниченный для руководителя доступ к каналам нужной информации, что вынуждает его пользоваться непроверенными источниками информации.
Одна из главных причин принятия некачественных или даже ошибочных решений - плохая организация работы государственного аппарата, нынешние функции которого, как отмечается в Послании Президента РФ В.В. Путина Федеральному собранию, не приспособлены для решения стратегических задач [18].
3. Принимающий решение обладает всем необходимым для принятия ответственного решения, за исключением одного – он не располагает надлежащей профессиональной компетентностью. Знание чиновниками современной науки управления, как отмечал В.В. Путин в 2002 г. в своем Послании Федеральному Собранию России, — это все еще очень большая редкость [19]. На это обстоятельно он обратил особое внимание и в Послании Федеральному Собранию РФ 2003 г., в котором, в частности, сказано: «...Несмотря на огромное количество чиновников, в стране тяжелейший кадровый голод. Голод на всех уровнях и во всех структурах власти, голод на современных управленцев, эффективных людей... Российская бюрократия оказалась плохо подготовленной к выработке и реализации решений, адекватных современным потребностям страны. И, наоборот, она неплохо приспособилась извлекать так называемую "административную ренту" из своего положения» [20].
Такая ситуация характерна для деятельности многих управляющих органов в нашей стране, причем различных уровней: высшего, регионального и местного. Она объясняется как дефицитом руководящих кадров, так и, главным образом, порочной системой подбора и расстановки кадров по непрофессиональным признакам. Политические и идеологические критерии подбора лиц на государственные должности пока доминируют в практике российских властей.
Оправдан ли какими-либо объективными обстоятельствами подход к подбору ответственных руководителей политическими соображениями? Если и не оправдан, то хотя бы объясним. В условиях острой конфронтации правящих сил с левой оппозицией на всех уровнях системы государственной власти, при наличии политического и идеологического раскола общества такой подход (при любом отношении к нему большинства населения) — альтернатива, имеющая наибольшие шансы для выбора.
Итак, принятие государственного решения означает выбор цели, выражающей государственный интерес, проекта (направления) видов деятельности, средств и методов действия, обеспечивающих реализацию намеченной цели. Решение принимается на основе всестороннего анализа объективных обстоятельств и проблем, вызвавших его необходимость; путем отбора из возможных альтернатив такого варианта, реализация которого приведет к разрешению назревших проблем при наименьших потерях для управляемого объекта. Решение принимается при участии членов управляющей организации, а также представителей групп интересов, и согласовании с ними избранного проекта. Обязательными требованиями принятия решения вместе с тем являются: а) наличие политической, экономической, социальной и правовой экспертиз проекта решения; б) соблюдение установленной (законом или регламентом государственного органа) процедуры принятия решения; в) сведение к минимуму влияния на решение субъективных элементов выбора.
Попытаемся подтвердить корректность вышеизложенных выводов анализом негативного примера: решений Правительства Российской Федерации и Центрального банка РФ от 17 августа 1998 г. о реструктуризации государственных краткосрочных обязательств, девальвации обменного курса рубля, введения моратория на осуществление валютных операций капитального характера. В Заключении Временной комиссии Совета Федерации по расследованию причин, обстоятельств и последствий названных решений делается вывод, что «решения Правительства Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации от 17 августа повлекли за собой катастрофические последствия для экономики и финансовой системы России, обесценение доходов и сбережений миллионов людей, нарушения их гражданских прав и в соответствии с обстоятельствами подготовки и принятия этих решений должны были бы рассматриваться как тягчайшие преступления против общества и государства» [21].
Комиссией было установлено, что подготовка и принятие указанных решений проходили с грубым нарушением принятых процедур подготовки решений Правительства; без необходимых в таких случаях экономической и юридической экспертиз, анализа вероятных последствий. Проекты решений не согласовывались с соответствующими ведомствами и не обсуждались даже на заседании Правительства.
При подготовке и принятии решений были нарушены и другие важнейшие требования, обеспечивающие их рациональность. Хотя цели и задачи действия Правительства были определены адекватно создавшимся условиям — обострением долгового и бюджетного кризисов, — однако не были выявлены причины возникновения последних и не охарактеризованы проблемы, ставшие предметом решений. Были учтены лишь некоторые объективные обстоятельства, обусловливающие принятие решений. Определяющее же значение имели: а) «некомпетентная субъективная оценка текущей ситуации и ожидаемых последствий этих решений»; б) субъективный выбор конкретного набора мер по выходу из кризиса. Не были приняты во внимание другие, известные в мировой практике альтернативные варианты преодоления сходных кризисных ситуаций. «Из всех возможных способов разрешения долгового кризиса был реализован наиболее безответственный в отношении инвесторов, разрушительный в отношении экономики и болезненный для населения России вариант...» В итоге «ни одна из выявленных целей не была достигнута».
Согласно Заключению комиссии, решения Правительства РФ от 17 августа стали следствием «проводившейся финансовой и макроэкономической политики, стратегических ошибок при ее формировании». В частности, превращения в «самодовлеющую цель» финансовой политики обеспечения сверхприбылей Центрального банка на рынке государственных обязательства, что привело в конечном счете к банкротству государства; либерализации доступа иностранным инвесторам на российский рынок ценных бумаг; искусственной привязке курса рубля к доллару и политике его удержания; применению заведомо порочной технологии обеспечения дефицита бюджета посредством «финансовых пирамид».
Наконец, Временная комиссия констатировала «высокую уязвимость существующей системы государственного устройства и установленных в ней процедур принятия решений для некомпетентных или преднамеренных действий правительственных учреждений, Правительством, отсутствие системы ответственности ... должностных лиц не только за обоснованность, эффективность и целесообразность принимаемых решений, но и за их соответствие законодательству» [22].
Рассмотренный пример позволяет обратить внимание читателя на огромную ответственность перед обществом субъекта, принимающего государственное решение. Казалось бы, исключительно административно-управленческая акция, касающаяся сравнительно локальной деятельности, не только обрушила финансовую систему страны, но и повлекла за собой тяжелые социально-политические последствия.
4. Динамика исполнения решений
Реализация государственного решения — логическое продолжение его принятия. Если решение принимается, следовательно, оно должно исполняться, ибо непременным является нормативно-правовое требование к исполнению. В свою очередь процесс принятия решения продолжается вплоть до исполнения, в смысле уточнения формулировки проблемы, целей и приоритетов, внесения корректив в реализуемый проект, связанных с использованием вновь открывшихся возможностей и потребностей некоторой модификации проекта. Опыт показывает, что любое, к примеру, политическое решение — не единичный акт, а длительный процесс. Это — «скорее боевой путь, — пишет французский политик М. Рокар, — ...нужно, чтобы исполнители и избиратели восприняли саму идею, добиться от заинтересованных лиц согласия с методами решения, убедить колеблющихся и ослабить противников... неусыпно следить за его прохождением в недрах государственной машины, держать под контролем его реализацию и саму процедуру выполнения... [23].
Процесс исполнения решения существенно отличается от его принятия. Если принятие решения сводится к целеполаганию (прогнозирование, программирование и планирование), то исполнение решения — к целедостижению. Это процесс объективации цели, превращения программного задания (решения) в практические формы жизнедеятельности общественных субъектов. Решение до тех пор остается проектом деятельности и будущего ее результата, т.е. феноменом управленческого сознания, пока оно не воплощается в действительность в виде намеченного реального изменения управляемого объекта. Исполнение решения — финал управленческого действия, образно говоря, момент истины для управляющего субъекта. Основное в исполнении — практическое достижение запланированного, соответствующей цели, результата. А следовательно, удовлетворение конкретных общественных потребностей и интересов. Этот процесс в той или иной степени очерчен во времени; осуществляется в определенном секторе политического пространства и правового поля заданными содержанием решения способами и методами управленческого действия. Заданными в основном и открытыми для возможных изменений в частностях.
Процесс исполнения решений многоэтапный. Прежде всего следует выделить следующие этапы: а) модификация плана решения (программы, проекта) применительно к специфическим управленческим условиям (особенностям субъектов-исполнителей и управляемых объектов); б) организация процесса исполнения решения: определение непосредственных исполнителей и механизма реализации, создание необходимых организационных форм и т.д.; в) контроль исполнения; г) обобщение итогов исполнения и оценка результатов.
Решения государственных органов, как правило, многоцелевые, и они адресуются субъектам-исполнителям различных уровней и видов управления. Отсюда потребность в модификации плана осуществления решения и внесение некоторых корректив в содержание проекта. Имеется в виду уточнение объектов воздействия; конкретизация исполнителей; обсуждение альтернативных вариантов планов реализации решений; достижение согласия среди исполнителей относительно заданий, вытекающих из решений, и др. Важен анализ поступающей новой информации и учет ее при корректировке проектов. Результатом этой работы должно быть принятие дополнительных решений, уточняющих формулирование проблем, промежуточных целей и приоритетов, использование вновь открывающихся возможностей и модификаций. Обозначаются также наиболее вероятные трудности и сложные вопросы, на решении которых нужно сосредоточить максимум усилий и ресурсов, что должно обеспечить скорейшее достижение конечных результатов. Способность субъекта своевременно определять и знать, где сосредоточить свои основные силы, — один из главных признаков искусства управления и политики. Характерно, что его подчеркивал политик В. Ленин и отмечают американские авторы — менеджер Р. Стейер и профессор Д. Беласко. «Определите 20% действия, которые обеспечивают 80% результатов, и сосредоточьте на них все усилия», — такое правило «концентрации усилий на стратегических действиях» они рекомендуют руководителям [24].
В литературе характеризуются «общие ошибки начальной стадии реализации конкретного управленческого решения («предпринимательского проекта»)», осуществляемой в рамках системы государственного сектора экономики. Они таковы: упускаются из виду конечные цели; смешивается много различных стилей управления; не предпринимаются с самого начала усилия по достижению в организации консенсуса (согласия) и сплоченности коллектива; действия предпринимаются на слишком многих направлениях и слишком быстро; плохо налажен обмен информацией [25]. Возможность подобных ошибок не исключена в организации исполнения государственных решений по социальным и другим вопросам.
Организация исполнения решений включает комплекс управленческих действий, различных по содержанию и значимости. Первоочередное из них — создание организационных форм, имеющих четкие цели, обеспечивающих необходимое для выполнения поставленных задач делегирование полномочий (или сохранение имеющихся) выделенным группам людей. Речь идет о правиле, сформулированном еще А. Файолем: как только поставлена задача, ее выполнение следует поручить определенным группам людей, которые могут обеспечить достижение целей.
Успешное исполнение решений в значительной мере зависит от того, насколько организационные формы способствуют осознанию целей государства и росту участия в их реализации. Причем, чем глубже намечаемые решениями преобразования в обществе, тем больше нужно поднимать к нему интерес и сознательное отношение как управляющих, так и управляемых, убедить в необходимости этих преобразований миллионы членов общества. Это еще одно требование, известное с советских времен, но оставшееся нереализованным. В непонимании значительной частью населения страны (если не большинством) необходимости нынешних реформ заключается главнейшая причина неудач в их осуществлении. Уместно напомнить мысль малопопулярного ныне классика: успех коренных преобразований обеспечен, когда масса охвачена организацией и ею руководит знание (К. Маркс). К сожалению, ни того ни другого в стране сегодня зачастую нет.
Реализация государственных решений, в особенности программных, требует соответствующего кадрового обеспечения: привлечения новых профессионально подготовленных работников и переподготовки имеющегося персонала. Продуманная и стратегически ориентированная кадровая политика государства в целом и каждого субъекта Федерации — главнейшее условие успешного решения этой задачи. Едва ли среди руководящей элиты найдутся лица, думающие иначе. На деле же реализуется алгоритм подбора кадров, образно говоря, в авральном порядке и, главное, зачастую, как отмечалось выше, не по критериям профессионального соответствия должностным обязанностям. Пора переходить к научно обоснованным критериям формирования управляющих кадров. Таковые разработаны, в частности, учеными Российской и Северо-Кавказской академий государственной службы. Отметим лишь некоторые из них. Компетентность, и только она, может служить мерилом соответствия того или иного лица, включаемого в состав аппарата государственного управления. Это означает прежде всего обладание необходимым кругом знания и опытом для осуществления полномочий, которыми он будет наделен в составе данного органа. Компетентность есть способность человека к эффективной реализации в практической деятельности специальных, профессиональных знаний при выполнении им своих служебных полномочий [26].
Теперь о проблеме ресурсов. В решении могут быть обозначены только их источники и общие контуры. Непосредственная организация дела нуждается в конкретизации общих указаний и выявлении новых возможностей инновационного характера. Здесь уместно заметить, что в государственном управлении, в отличие от экономического, используются наряду с материальными ресурсами многие другие. Социальные ресурсы — наличие в обществе социальных групп, изъявляющих готовность участвовать в осуществлении целей государственных решений, — не менее важны, чем, например, финансовые. Последние преходящи, социальный капитал долговременный, его значение стратегическое. Вообще человеческий фактор является решающим в осуществлении государственных решений, причем не в конечном счете, а в первую очередь и непосредственно действующим. С его ролью связано возросшее значение таких видов ресурсов, как информация и знание. Знание, пишет директор крупнейшей американской компании Д. Хэмптон, относится к наиболее действенной форме власти в современных организациях; оно заменит в будущем нынешние рычаги власти — капитал и насилие [27].
К системе организационных мероприятий относится связанная со спецификой управленческой ситуации доработка механизма реализации решений: административного и правового регулирования, информационно-аналитического обеспечения, методической поддержки и др. К примеру, устранение неполноты нормативной базы, несогласованности отдельных нормативных документов, инструктивных материалов; выявление региональных законодательных актов, противоречащих общегосударственным, что препятствует выполнению стратегических и других жизненно важных программ.
Непосредственная организация и регулирование процесса исполнения решения включает анализ эффективности задействованных стимулов активизации деятельности участников процесса и своевременное внесение соответствующих изменений в структуру мотивации. Теория ориентирует на многоплановый подход к данному вопросу, соединяющий админстративно-принудительные стимулы с экономическими, социальными и политическими, правовыми и моральными, индивидуальные с коллективно-групповыми. Сложность задачи, стоящей перед руководством, зависит от характера и содержания реализуемых решений. Если речь идет об экономических проектах, то в таком случае внимание управляющих сосредоточивается на разработке и применении материальных индивидуальных, а также групповых стимулов. О целесообразности внедрения последних (наряду с индивидуальными) говорят, в частности, американские теоретики и практики управления. Они же обращают внимание на то, что хотя материальные стимулы остаются универсальным средством мотивации работников, однако смогут играть определенную роль нематериальные виды мотивации активности: дух партнерства администрации со своими подчиненными; признание и поощрение заслуг работников; социальные мероприятия в организациях и др.
Государственные решения многообразны. В их исполнении участвуют организации различных уровней и видов. Они действуют в среде, которую полностью контролировать не в состоянии, поскольку ее изменение зависит не только от управляющей системы. Этим объясняются проблемы, возникающие при использовании средств и методов управленческого действия, первоначально обозначенных в реализуемых проектах. Одна из них: дифференциация средств и методов в зависимости от уровня и видов управленческих организаций. На уровне центральных органов управления используются общие нормативно-правовые механизмы, демократические институты и другие политические, экономические, информационные и символические способы реализации решений. На уровне субъектов Федерации включаются в процесс наряду с общегосударственными механизмами (с учетом специфики региональных общностей) нормативно-правовые и общественные механизмы, свойственные субъектам Федерации. Например, традиционные национальные демократические методы управления. Существенно различны способы реализации решений жестко запрограммированных, полузапрограммированных и фактически незапрограммированных. Первые исполняются в соответствии с заданными нормативами и стандартами. Вторые — допускают применение как формализованных, так и неформализованных (общественных) способов воздействия на управляемых. Последние — фактически запрограммированные — реализуются главным образом при помощи неформализованных политических, социально-экономических, информационных и других средств и технологий, хотя и в границах единого правового поля.
Другая проблема, связанная с отбором средств и инструментария исполнения решений, — это поддержание способности управляющей организации адаптировать механизм исполнения к изменяющейся ситуации и проявлять готовность к новациям и вместе с тем сохранять идентичность, заложенную в основе реализуемого проекта. Если, скажем, характер решения предполагает эволюционный путь изменения управляемого объекта и соответствующие ему способы воздействия, то конкретная управленческая ситуация не должна породить революционно-разрушительную форму изменения. Программы, требующие демократических способов претворения в жизнь, не могут сохранить свою идентичность, если управляющий субъект попытается их реализовывать диктаторскими методами.
Организация исполнения неотделима от координации управленческих действий и отношений внутри управляющей системы, а также между последней и управляемым объектом. Достижение и поддержание согласия между участниками процесса относительно целей, способов, методов и средств их осуществления — основное содержание функций координации. Его образует цепь взаимосвязанных мероприятий по урегулированию и разрешению противоречий и конфликтов, возникающих в управляющей организации. По своей преимущественно объективной природе они суть проявление фактов дезорганизации данной целевой группы (органа, аппарата и др.) как оборотной стороны необходимых изменений.
Открытость управляющей организации для изменения порождает явления дезорганизации — состояния, при котором действующие нормы, используемые способы и процедуры приходят в несоответствие с обновившейся ситуацией. Поиск новых процедур и форм реализации управленческих функций безболезненно не проходит. Конфликт между инициаторами изменений и сторонниками стабильности оказывается неизбежным. Несогласие становится реальностью, хотя и временной. Это означает нарушение оснований для совместных действий по реализации решений. Поведение членов организации зависит от понимания ситуации, от реакции на происходящие или ожидаемые изменения, соотнесения с нею своих частных интересов и позиций. При наличии согласия сотрудники понимают ситуацию в принципе одинаково; их интересы и позиции в основе совпадают с общим интересом организации и ее линией поведения в изменяющихся условиях. В таком случае каждый участник представляет себе процесс исполнения решений в целом и понимает необходимость обновления способов и технологий его осуществления. Соответственно он предъявляет другим предсказуемые и сходные ожидания и требования. Общие представления о ситуации и ожидания, позиции и требования создают атмосферу, благоприятную для коллективного скоординированного управленческого воздействия.
Неспособность руководства организации преодолеть несогласие и устранить элементы дезорганизации приводит к конфликтной форме взаимоотношений — напряженности. Как момент дезорганизации напряженность выступает прежде всего в негативном плане: препятствует координирующим усилиям руководства. Вполне понятно поэтому стремление последнего ослабить или вообще устранить нежелательное состояние. В то же время объективно мыслящий лидер не может оставить без внимания позитивный аспект возникшей напряженности. Она служит сигналом неудовлетворенности части коллектива состоянием дел в организации, заведенным порядком, стилем руководства, наконец, проявлением протеста против догматического, бюрократического подхода к исполнению решений вышестоящих органов.
Учтя как негативный, так и позитивный аспекты конфликтной ситуации, руководитель сможет предупредить возникновение конфронтации членов организации, т.е. такого уровня развития конфликта, при котором начинают доминировать дисфункции системы. В условиях растущей напряженности и конфронтации на первый план выходит практика применения негативных санкций управляющей организации к управляемым; обостряется противоположность формальных и неформальных отношений. В ткань нормальных служебных отношений проникают подозрительность, взаимное непонимание, нарушается деловое общение. В большей степени такие явления множатся по причинам субъективного порядка. Управленческая культура, уважение авторитета власти, закона, профессиональный кодекс, служебная этика — гаранты успешного функционирования организации и предупреждения конфликтов деструктивного характера.
Мы остановились на одном виде конфликта в деятельности управляющей организации, связанном с выбором и реализацией способов и технологий исполнения решений. Управленческий процесс обременен и многими другими, типичными для него противоречиями и конфликтами. В их числе конфликтные ситуации, в том числе обусловленные диалектикой цели и средств, целей и результатов. Не вдаваясь в детальное рассмотрение данного вида конфликтов, обратим только внимание читателя на возможное разнообразие ситуаций, его порождающих. «Цель оправдывает средство» — вариант волюнтаристского действия, как правило, связанный с большими и даже опасными потерями для организма общества, вариант, неизбежно вызывающий конфликт. «Определенная цель — неопределенные средства» — вид решения при отсутствии необходимой информации также может быть причиной конфликта. «Определенная цель — определенные средства» — вариант последовательного, продуманного решения. При благоприятной ситуации для его реализации и наличии согласия в отношении того и другого конфликт исключается.
Источники конфликтов кроются в разнохарактерности используемых методов управленческих действий: автократической и демократической ориентацией, бюрократических или гуманистических методов, обеспечивающих мобилизационный тип управляющего воздействия или же участие подчиненных в самоорганизации.
Контроль исполнения решений — одна из главных функций управления. Система контроля — неотъемлемая часть любой управляющей организации. Современная теория управления утверждает, что только посредством применения систем контроля организация способна обеспечить достижение своих целей [28].
Сущность контроля заключается в фиксировании адекватности (соответствия) целям решений направления, способа управленческих действий и результата этих действий. Контроль в конечном итоге устанавливает, насколько изменение объекта доведено до его запланированного состояния. Иными словами, насколько достигнутый результат соответствует цели, выраженной в проекте. Контроль, ориентированный на конечный результат, вместе с тем составляет часть всего процесса исполнения решения, так как начинается он с момента реализации проекта. В литературе по теории современного управления достаточно подробно описана роль функции контроля. В государственном управлении она проявляется специфически и дополняется некоторыми моментами, связанными с политическими, властно-правовыми механизмами контроля.
В государственном управлении, как и в экономическом, социальном, процесс контроля является непрерывным (по крайней мере, должен быть таким с точки зрения теоретической). Поскольку непрерывен процесс реализации решений, то каждый шаг управляющего субъекта на пути движения к конечной цели нуждается в сопоставлении его со стратегическим курсом, с намеченным планом, и, в случае отклонения от него, — в соответствующей корректировке. Именно контроль сигнализирует об отклонении управляющего действия от «стратегического плана». Он выполняет функцию обратной связи объекта с управляющим субъектом.
Непрерывность контроля дает возможность регулировать управляющее воздействие государственных органов на управляемых в соответствии с их потребностями и интересами, позволяет своевременно реагировать на запросы общества.
С помощью контроля руководящему органу удается выявлять и разрешать возникающие проблемы, связанные с несовершенством тех или иных технологий управленческого процесса, с пробелами в аналитико-информационном и нормативно-правовом обеспечении; отслеживать соответствие уровня профессиональной подготовки аппарата управления выполняемым задачам. В процессе контроля обнаруживаются дефекты в работе аппарата и вскрываются причины таковых.
Ход процесса исполнения решений во многом зависит от того, в какой мере управляющий орган ориентируется в ситуации, сопровождающей процесс, учитывает ли он происходящие изменения экономических, социально-политических и других условий. Контроль исполнения решений и есть тот механизм, который привлекает внимание руководства к возникающим противоречиям между поведением управляющих и изменившимися условиями их деятельности, стимулирует поиск новых приемов реализации управленческих функций.
Нельзя не отметить полезность контроля как фактора, стимулирующего активность коллектива управляющей организации. Систематическая информация о ходе его деятельности и результатах способствует самоконтролю за работой организации, мотивирует рост коллективной ответственности за исполнение решений и заинтересованность в успехе.
Функция контроля исполнения решений может быть реализована при условии, если избраны объективные показатели, характеризующие управляющую деятельность и ее результаты. А именно те, которые поддаются как выполнению, так и контролю и объективной оценке. Они основаны либо на заранее принятых нормах, стандартах и иных обязательных моделях, либо на определенных парадигмах, политических и идеологических концепциях и принципах государственного управления. В качестве критериев оценки могут выступать показатели, адекватные задачам и планируемым результатам исполнения решений. Различные виды решений характеризуются свойственными им показателями их реализации, а соответственно — и критериями оценки. Например, исполнение политических решений невозможно оценивать по каким-то установленным стандартам или точно предписанным культурно-политическим образцам. Результаты политических решений, особенно стратегических, не поддаются одним только адекватным количественным оценкам, хотя количественные показатели служат существенно важным измерителем результатов осуществления экономической и социальной политики и других государственных программ. О реализации политических проектов судят по объективным изменениям, происшедшим в жизни общества, его отдельных групп, в положении человека, его уровне и качестве жизни; по состоянию общественной системы — ее стабильности или нестабильности, ее уровню адаптированное™ к внешней среде, наличию баланса или конфликтности групп общественных интересов и т.д.
Известные в политической науке парадигмы согласия и конфликта, характеризующие состояние взаимоотношений между членами общества, могут служить объективными критериями оценки результативности политических решений. Какие бы цели ни ставили перед собой власти и какие бы стратегии они ни реализовывали, высшим критерием оценки их деятельности, критерием простым и понятным для всех, является создание необходимых условий жизни и труда для всех слоев общества, обеспечение согласия и сотрудничества между людьми, способность властей регулировать и разрешать возникающие в обществе конфликты. Правда, у различных по социальной природе правящих политических сил могут быть свои критерии оценки осуществляемой ими политики, принимаемых и реализуемых решений. Например, критерий классового подхода, основанный на учете соответствия решений интересам определенных классов. Российские либеральные реформаторы декларируют свое явно негативное отношение к этому критерию. Тем не менее, политика приватизации государственной собственности осуществлена правящим режимом в интересах формирования в стране класса российского капитала. Теперь это стало очевидным фактом. Кстати говоря, результативность государственных решений по проведению приватизации оценивается правящими кругами и по идеологическому критерию: как важнейшего экономического условия преодоления бывшего господства в обществе коммунистической идеологии.
Существенно отличается механизм контроля исполнения административно-государственных решений. Здесь применимы стандартизированные и нормативно-правовые показатели и оценки. Например, Министерством образования РФ установлены единые государственные образовательные стандарты. Цель решения Министерства — добиться того, чтобы выпускники разных школ, обучающиеся по разным учебникам и программам, имели бы некоторый запас знаний, который бы соответствовал определению статуса общего среднего образования. Или еще пример. Законом РФ установлен прожиточный минимум для населения. Это также вид социального стандарта. В том и другом случаях в реальной жизни неизбежны отклонения. В системе образования они связаны с уровнем профессиональной подготовки педагогических кадров. А в социальной — с существенными различиями в социально-экономическом развитии регионов и муниципальных единиц. На реальный прожиточный минимум влияют некоторые другие экономические факторы — прежде всего инфляционные колебания. В обоих случаях механизм контроля исполнения решений однозначен: сопоставление реальных характеристик (показателей) состояния объекта с установленными государственными стандартами.
Административно-политические решения, т.е. решения административные по содержанию и методам принятия и исполнения, но вызывающие политические последствия, могут контролироваться как с помощью государственных стандартов и правовых, норм, так и механизмов политического анализа и оценки. Это — критерий соответствия концепциям и принципам проводимой государством политики, ее программным целям. Рассмотренное выше решение Правительства Российской Федерации от 17 августа 1998 г. является административно-политическим решением, поэтому его сущность и последствия Советом Федерации были оценены комплексно: с позиций правовой, экономической и политической.
Наконец, вопрос о контроле за исполнением решений. На наш взгляд, можно обозначить три вида контролирующей деятельности: диагностика процесса исполнения решения, ревизия и санкции. Каждый из них завершается оценкой конкретной управляющей деятельности и ее результатов. Диагностика на данном этапе управленческого процесса применяется с целью выявления и объяснения нерешенных или трудно решаемых проблем, связанных с реализацией проекта, и причин их возникновения. Этот вид контроля используется в основном при поверке хода исполнения политических решений. Он осуществляется в форме политического анализа и оценки способов деятельности управляющего субъекта и состояния субъектно-объектных отношений.
Политический анализ как инструмент диагностики — это объяснение функционирования конкретных элементов управляющей системы в конкретной ситуации и оценка ее деятельности с точки зрения соответствия политическим целям и задачам, полноты их реализации в анализируемый период времени и в сложившейся ситуации. Анализ включает: а) выявление особенностей функционирования, в том числе характера трудностей и конфликтов конкретных структур власти и управления и тенденции их изменения в данной ситуации; б) оценку уровня реализации конкретными субъектами и структурами свойственных им функций и компетенции; в) оценку действенности организационных форм и методов исполнительской деятельности и рациональности использования ресурсов; г) определение доминирующих в данной ситуации общественно-политических ориентации и мнений, а также отношения различных слоев населения к выявившимся результатам проводимой политики, осуществляемых решений (лояльного, нейтрального, негативного); д) проверку уровня участия управляемых в исполнении намеченных программ.
Другой вид контроля — ревизия (от лат. — пересмотр) сводится к официальной документальной проверке деятельности исполнительного аппарата государственного органа на предмет законности использования материальных ресурсов, а также соответствия применяемых технологий правовым и другим, установленным государственными органами нормам. Санкции (от лат. — строжайшее постановление) — важная форма социального контроля. Применение санкций — форма контроля решений государственных органов вышестоящими институтами власти и управления. Различают санкции негативные и позитивные. Первые применяются для запрещения незаконных или не соответствующих установленным нормам и принятым ценностям действий управляющих и управляемых. Вторые, напротив, используются в качестве стимулов активизации законных и целесообразных видов действий участников управленческого процесса. Например, инновационной деятельности.
В заключение отметим, что всякий контроль рационален, служит средством интенсификации управленческой деятельности при условии его осуществления в рамках целей и задач, вытекающих из содержания решений.
Контроль осуществляется прежде всего самим субъектом, принявшим то или иное решение, а также его исполнителем. Вместе с тем функционируют самостоятельные специализированные органы государственного контроля в структуре исполнительной власти. Так, в России существуют три вида федеративных органов исполнительной власти: министерства, федеральные службы и федеральные надзоры. Согласно Конституции РФ Государственной Думой Федерального Собрания России создан независимый контрольно-финансовый орган — Счетная палата РФ. В ее функции входит проверка финансовой деятельности учреждений и организаций, обслуживаемых федеральным бюджетом. К сожалению, данный орган не имеет властных полномочий, т.е. не наделен правом применения санкций, пресекающих выявляемые им нарушения законодательства в использовании государственных средств. Он может лишь направлять материалы ревизионных проверок в правоохранительные органы.
Обобщение итогов реализации решений и оценка результатов — заключительный этап управленческого действия. Он является логическим продолжением осуществления функции контроля. Об итогах реализации решений судят по объективным показателям управленческой деятельности, охарактеризованным выше. Процедура обобщения результатов реализации решений в основном сводится к сравнительному анализу планируемых заданий (целей, задач) и достигнутых фактических результатов. Заключительный вывод анализа: «осуществлены» или «не осуществлены» поставленные цели и задачи — не исчерпывает содержания рассматриваемого этапа управленческого процесса. Управляющего субъекта интересуют также вопросы: а) об эффективности реализованного решения; б) о последствиях решения; в) о проблемах, возникающих вследствие решения.
Эффективность — проблема, заслуживающая особого рассмотрения, что будет сделано в следующей главе настоящего труда. Здесь же отметим только то, что, не определив эффективности реализованного проекта, невозможно вообще судить о его полезности для общества.
Любые государственные решения могут иметь противоречивые последствия, зафиксированные в прогнозных сценариях или непредвиденные. Из теории деятельности известно, что цели никогда полностью не совпадают с результатами. Они богаче результатов, поскольку представляют их идеальный образ. Идеал всегда выше действительности. С другой стороны, результаты содержат в себе нечто выходящее за рамки цели; это — последствия реализации целей. В таком смысле результаты как фрагмент действительности содержательней цели лишь как прогнозируемого представления о ней.
Анализ возможных последствий решений, как отмечалось, — непременное условие принятия последних. Он не менее важен в качестве элемента обобщения итогов их реализации. Причем речь идет о последствиях ближайших и отдаленных. Позитивные ближайшие последствия зачастую оборачиваются серьезнейшими негативами в будущем. Особенно, если решения касаются вопросов, связанных с базовыми факторами жизнедеятельности общества: природными ресурсами, здоровьем нации, образованием народа, развитием науки, геополитическими интересами государства и т.д. Но именно отдаленные последствия труднее всего осмысливаются, и наступление их чаще всего оказывается неожиданным и драматичным. Едва ли инициаторы развала Советского государства предвидели множество негативных последствий, проявившихся ныне в жизни всех государств — членов СНГ. Эйфория, порожденная приобретением государственного суверенитета, миновала, по крайней мере, в умонастроении широких народных масс. Живой реальностью стали насущные проблемы выживания и преодоления ранее не проявлявшихся острейших социальных конфликтов, в том числе межэтнических.
Обобщение итогов реализации решений и анализ возможных последствий позволяет выявить новые проблемы и новые возможности государственного управления. Диалектика жизни такова, что решение одних проблем приводит к возникновению других. Реализация решений высших органов управления требует комплекса соответствующих управленческих действий нижестоящих органов и т.д. Цепь решений и следующих за ними новых проблем — закономерное явление в функционировании государства и общественной системы.
Совокупный конечный итог составляющих рационального управленческого процесса — расширение границ возможностей контролировать происходящие общественные процессы, точнее предсказывать последствия принимаемых решений и в целом адекватнее организовывать и осуществлять деятельность управленческой системы. Этому постоянно препятствует неопределенность ситуации, в которой действует система. Неопределенность означает недостаточно известное. Неопределенность, отмечает профессор Д. Занд (США), влияет на наш подход к управлению почти на каждом уровне анализа, начиная с теории поведения, кончая теорией разработки стратегии и проектирования организационных структур [29]. Фактор неопределенности — подтверждение принципа «ограниченной рациональности». Его влияние на процесс управления уменьшается в той мере, в какой становится полнее информация о ситуации. Но чем сложнее ситуация и принимаемые решения, тем ощутимее влияние этого фактора на деятельность управляющей системы и большее значение приобретает творческая умственная работа управляющего субъекта.
Литература
1. Василенко И.А. Административно-государственное управление в странах Запада: США, Великобритания, Франция, Германия. С. 69.
2. Макаренко В.П. Групповые интересы и властно-управленческий аппарат: к методологии исследования // Социс. 1997. № 7. С. 99-100.
3. Мильнер В. Введение // Современное управление. Т. 1.
4. Сердюков Г.Н. Политический выбор в условиях кризиса // Российская политическая политология. — Ростов н/Д: Феникс, 1998. С. 246.
5. Марш Д. Теория и практика управления // Современное управление. С. 13.
6. Рокар М. Трудиться с душой. - М., 1990. С. 110.
7. Ельцин Б.Н. Выйти из кризиса, сохранив всю полноту политических и экономических свобод // Парламентская газета.
1999. 31 марта; Путин В.В. Послание Президента РФ Федеральному Собранию // Российская газета. 2003. 17 мая.
8. См.: Российская газета. 2002. 19 апреля; Там же. 2004. 27 мая.
9. См.: Российская газета. 2003. 17 мая; Там же. 2004. 27 мая.
10.Стейер Р., Беласко Д. Управление: от старых форм к новым реальностям // Современное управление. С. 14.
11.Занд Д. Теории и их приложение // Современное управление. — М., 1997. Т. 1. С. 1-23.
12.Хольцер М. Как научиться повышать производительность в государственном секторе // Эффективность государственного управления. — М., 1998. С. 29.
13.Стейер Р., Беласко Дж. Современное управление. Т. 1. С. 1-3.
14.Там же. С. 16.
15.Ханна У. Процесс принятия решений в организациях государственного сектора // Современное управление. Т. 2. С. 16, 28.
16.Занд Д. Теории и их приложение // Современное управление. Т. 1. С. 1-23.
17.Там же. С. 24.
18.Путин В.В. России надо быть сильной и конкурентоспособной // Российская газета. 2002. 19 апреля.
19.Там же.
20.См.: Российская газета. 2003. 17 мая.
21.Парламентская газета. 1999. 23 марта.
22.Там же.
23.Рокар М. Трудиться с душой. С. 110.
24.Стейер Р., Беласко Д. Управление: от старых форм к новым реальностям // Современное управление. Т. 1. С. 1—6.
25.Макгоун Р., Спанъола Р. Разработка новых технологий // Эффективность государственного управления. С. 773.
26.Игнатов В.Г., Понеделков А.В. Профессиональная компетентность должностного лица государственной службы // Государственная служба: теория и организация. С. 496—509.
27.Хэмптон Д. Организация будущего // Современное управление. Т. 1. С. 1-72.
28.Колдуэлл А. Формирование систем контроля // Современное управление. Т. 1. С. 1-49.
29.Занд Д. Теории и их приложение // Современное управление. Т. 1. С. 1-19.
Глава 9. Методы и стиль государственного управления
1. Методы государственного управления
Управленческий процесс осуществляется в различных формах, при помощи разнообразных методов, процедур и правил, что в совокупности составляет его технологию.
Анализируя процесс исполнения решений и его этапы, мы описывали некоторые способы управляющей деятельности (организационной, контролирующей и др.) и тем самым затрагивали вопросы методов. Теперь предстоит сосредоточить внимание на теории вопроса и рассмотреть наиболее распространенные методы воздействия управляющей системы на управляемых.
Понятие метода государственного управления обозначает осознанный способ воздействия управляющего субъекта на объект легитимными средствами. Это понятие характеризует определенный, сложившийся в практике набор взаимосвязанных управленческих действий для достижения поставленных целей.
Метод выражает функцию управления в действии. Каждая реализуемая функция выступает в качестве метода. Например, планирование — одна из функций и вместе с тем способ управленческой деятельности.
В многообразии методов управления, описанных в литературе, можно выявить их общую природу, общие элементы структуры, некоторые совпадающие тенденции развития и характерные взаимосвязи. Любой метод — это осознанный субъектом способ деятельности, сообразующийся с закономерностями объекта, с логикой его самоорганизации и саморегуляции и ориентированный на удовлетворение потребностей и интересов управляемых. В методе аккумулировано знание об объекте, его закономерностях. В его структуре такие общие элементы, как подход, прием и операция, а также норма и средство. Термин «подход» обозначает ориентацию действия, соответствующую пониманию объекта управляющим субъектом. В характере «подхода» объективируется концепция (теория) метода. Например, административно-командные методы предполагают подход к управляемому объекту как лишенному собственной активности, нуждающемуся во внешнем прямом воздействии. Сущность экономических методов иная — подход в форме косвенного влияния на признаваемые субъектом механизмы саморегуляции экономических процессов через целенаправленно создаваемую ситуацию. Приемы и операции — отдельные действия и ряд взаимосвязанных действий, образующих управленческий процесс; нормы — правила действия, закрепленные законом или иным нормативным правовым документом; средства — виды ресурса, используемого для достижения цели решения.
Методы государственных решений, составляющие их элементы, имеют свою специфику, связанную с использованием в качестве средства управляющего воздействия властных полномочий. В арсенале средств — разнообразные виды политического капитала (орудий власти), которыми располагает тот или иной государственный орган управления: материального, человеческого, информационного и др. Результаты применения методов государственного управления воплощаются в реализации функций государства, в осуществлении конкретных задач по созданию нужных обществу продукции, благ и инициированию необходимых процессов.
Теория фиксирует общность некоторых существенных признаков различных методов государственного управления и современного менеджмента (науки и практики управления в производственных организациях). Они, так же как и технологии менеджмента, нацелены на оптимизацию управленческого процесса, на наиболее полное выявление и использование потенциальных возможностей управляющей системы. Эффективность методов в конечном итоге измеряется обеспечением стабильного состояния общества и устойчивостью тенденции его позитивных изменений. Конкретные показатели эффективности в основном сходны с критериями технологий социального менеджмента. Это: достаточная простота метода (механизм его действия не должен быть излишне усложнен); гибкость; способность изменяться под влиянием перемен среды и эволюционирования управляющей системы; экономичность — в смысле реализации принципа экономии, энтропии и рационального использования ресурсов; возможность понимания участниками управленческого процесса назначения метода, его направленности; доходчивость технологии применения [1].
Теория выявляет общую тенденцию методов адекватного выражения требований объективных законов и принципов управления, а также повышения уровня рациональности управленческой деятельности. Скажем, метод планирования в современных системах имеет качественно иную направленность и содержание, чем это было в системе государственного социализма. В последней планирование являлось основной директивной формой управления прямого действия. В современных же системах — это одна из форм целеполагания. Планирование в данном случае — не командная модель действия по реализации решения, а ориентир движения к конечной цели, причем корректируемый по мере обновления используемой информации. Таков, в частности, метод индикативного планирования.
Существенно важно отметить еще одну черту методов государственного управления — их взаимосвязь, равно как и функций. Ни один метод не приводит к желаемым результатам вне взаимодействия с другими. Комплексный характер использования набора методов при решении конкретных проблем — одно из правил системного подхода.
Методы управления, как и прочие технологии, обусловлены закономерностями объекта и главным образом теми потребностями и интересами управляемых, на реализацию которых нацелены усилия управляющего субъекта. Они результативны, если технология субъекта (приемы, процедуры) будут соответствовать уровню разнообразия объекта; если субъект будет стремиться не к искусственному ограничению существующего естественного разнообразия объекта (богатства проявления его поведения, его потребностей, интересов и целей), а к «балансу разнообразий» своего объекта [2]. Метод тем эффективней, чем в большей мере его применение обеспечивает согласованность целенаправленной, регулирующей деятельности субъекта с механизмом самоорганизации общественной системы. Последний же зависит от типа социально-политической системы и состояния гражданского общества. Однако сказанное нельзя понимать в смысле признания пассивного отношения субъекта к выбору методов и механизмов их действия. За субъектом — приоритет именно в выборе арсенала методов и технологии управленческого действия, в отработке (теоретической и практической) организационных форм применения, в обеспечении адаптации методов к изменениям общественной системы.
Наконец, применение тех или иных методов в данной области управления определяется целью и идеологией системы государственного управления. Например, ориентация российских властей на доминирование нормативно-правового регулирования в сфере экономики была осуществлена в соответствии с объявленной либерализацией экономики и принятой монетаристской концепцией. Специфика экономических условий, сложившихся в стране, не была учтена. Неудача проводившихся в 90-е гг. реформ — подтверждение того, что приоритет выбора методов управления, принадлежащий субъекту, не абсолютен, а ограничен объективными особенностями и потребностями объекта. То же самое следует сказать о влиянии на выбор методов элементов субъективного фактора: профессиональной подготовки кадров, личных качеств лидеров государственных организаций и пр. Такое влияние бесспорно, однако не безгранично. К примеру, управляющие с низкой профессиональной подготовкой склонны чаще прибегать к административно-командным методам. Нынешние же политические и экономические условия сужают социальное пространство для их использования.
Зависимость методов, да и организационных форм государственного управления от состояния управляемого объекта, от изменения среды порождает проблему адаптации управляющей системы. Государственным органам приходится постоянно иметь в виду, что объективные социально-политические и экономические условия, потребности и интересы общества и его частей изменяются быстрее, чем конкретные организационные формы и методы управления. Будучи в большинстве своем закрепленными в правовом порядке, формы и методы деятельности государственных институтов неизбежно приобретают черты консервативности, косности. Они остаются одними и теми же на протяжении ряда лет, обретая, кроме прочего, еще и силу привычки, инертность традиции, тогда как содержание экономической, социально-политической и других деятельностей непрерывно изменяется, становится иной и окружающая среда. В результате всякая организационная форма и методы управления могут со временем превратиться из инструментов рационального регулирования, поддержания состояния стабильности общества и его возможного развития в фактор дестабилизации и разрушения.
Назревшей потребности адаптации управляющей системы к изменившимся условиям среды и объекта управления могут противостоять в таких случаях сложившиеся структуры управления, комплекс практикуемых методов управления, некоторые нормы и даже принципы, регулирующие управленческую деятельность, стиль мышления кадров, и т.д. Существующие формы и методы управления изменяются тогда, когда они в основном исчерпывают себя и складываются объективные условия для возникновения новых структур и методов. Противоречий между отжившими формами и методами управления и изменившимися объективными условиями и потребностями государства невозможно избежать; их важно не просмотреть, не допустить до развития в конфликт между управляющей системой и управляемым объектом.
Самоуспокоенность кадров, «барьер идиллий» зачастую оказываются непреодолимыми, что приводит в конечном счете к краху системы. Это произошло с советской системой государственного управления экономикой. Не менее разрушительна и другая крайность, когда выявившееся противоречие между исчерпавшей себя управляющей системой и потребностями общества объясняют как следствие изначальной порочности системы и стремятся разрушить ее до основания, смести с лица общества все ее элементы, не исключая те, потенциал которых послужил бы становлению новой системы. Так поступили радикальные реформаторы-либералы, пришедшие к власти в нашей стране в августе 1991 г. И только неутешительные результаты проводимых реформ заставили здравомыслящих политиков и управленцев начать критический пересмотр многих позиций.
Изложенные теоретические соображения по проблеме позволяют сделать вывод о том, что методы государственного управления и связанные с ними организационные формы достаточно чувствительны к изменениям управляемого объекта и окружающей среды. Они раньше других элементов системы, скажем, функций или взаимосвязей между управляющими субъектами, реагируют на новые цели и стратегии. Вот почему подход к проблеме методов будет корректным при условии, если он исключает представление о некоем постоянном комплексе методов и технологии их реализации, якобы присущих действию системы в любых ситуациях и на любых этапах модернизации общества.
Способы воздействия на управляемых многообразны: а) прямое (непосредственное) воздействие, основанное как на авторитете субъекта власти, так и на внешнем принуждении; б) воздействие через мотивы и потребности — стимулирование желаемого поведения и деятельности; в) через систему ценностей — информацию, воспитание, обучение; г) через окружающую социальную среду — изменение условий труда, статуса организации; изменение организации кооперирования деятельности людей. Каждый из них осуществляется своими средствами. Отсюда и группировка методов управления.
В зависимости от средств управляющего воздействия различаются методы: административно-правовые, организационные, политические, экономические, социальные, информационные, идеологические и социально-психологические. Возможны иные типологии. По характеру воздействия: демократические, авторитарные, принудительные, манипуляционные, мобилизационные, партисипативные. По результатам воздействия: революционные и реформаторские, инновационные и консерваторские.
Рассмотрим первую группу методов — общих для всей системы органов управления.
Административно-правовые методы опираются на иерархическую структуру управляющего государственного субъекта. Суть их — воздействие на управляемых по типу — «приказ — исполнение». Отношение прямого подчинения управляемого управляющему обеспечивается системой законодательства, реализацией властных полномочий «по вертикали», применением запретительных санкций, вплоть до правового принуждения. Инструментарий административно-правовых методов: закон, подзаконные акты, директива, приказ, распоряжение, регламент, инструкция и другие элементы властеотношений. Субъект — носитель административной власти. Административно-государственное управление базируется на административно-правовых методах.
Примером реализации административно-правового метода может служить любое постановление или распоряжение органа исполнительной власти, содержащее обязательные предписания нижестоящим органам осуществлять определенные мероприятия по управлению предметами, относящимися к их ведению.
Административно-правовые методы характерны для бюрократической модели управленческой организации. Ее отличают: жесткая централизация власти (в форме единоначалия); формализация правил поведения членов организации и стандартизация задач; неприкосновенность организационной иерархии (каждая нижестоящая ступень находится под прямым контролем вышестоящей; каждый член организации имеет узкий строго установленный круг прав, обязанностей и компетенции и т.д.). Такая модель, по словам американских авторов, эффективна при стабильной среде и невысоком уровне используемых технологий. Она неизбежно столкнется с трудностями по мере нарастания неопределенности управленческой ситуации и усложнения задач, решаемых организацией [3].
Использование норм права в управлении необязательно связано с воздействием на управляемых по типу: «приказ — исполнение». Право служит также инструментом опосредованного регулирования деятельности — социальной, экономической или какой-либо другой. В этом случае мы имеем метод нормативно-правового регулирования, производный от административно-правового. О таком методе идет речь, в частности, в Послании Президента РФ Федеральному Собранию России 1998 г. Основное средство воздействия на рыночную экономику, говорится в документе, — нормативно-правовое регулирование и контроль, что создает благоприятную правовую и институциональную среду обитания и развития бизнеса и конкуренции.
В ситуации кризиса и необходимости достижения экономической стабилизации государство в совокупности методов регулирования экономического процесса может пойти на применение административно-правовых мер воздействия, но «в разумной пропорции». Администрирование же в качестве исключительного средства воздействия на экономику недопустимо.
Организационные методы основаны на правовых нормах и специфической власти организации как системы. Это — управление при помощи создания организаций или совершенствования существующих для решения определенных задач. Всякий организационный процесс представляет собою форму конкретного управленческого процесса. Функции управления реализуются тем продуктивнее, чем адекватнее целям управления его организации. Согласование функций, оптимизация их осуществления, предупреждение или преодоление дисфункций, гармонизация структур, активизация участников управляющей системы — все это в значительной мере обеспечивается качественной организацией. Ведь организация есть такая система взаимосвязей между участниками, в которой поведение каждого определяется ее правилами («организационный императив»). Изменение организации (развитие или деградация) влечет за собой изменение связей и отношений между составляющими ее участниками.
Организационные методы затрагивают все этапы управления. Вот некоторый набор типичных организационных действий: распределение ролей между участниками управленческих отношений или внесение корректив в существующую схему ролевых статусов; перераспределение полномочий, обязанностей и ответственности, проверка исполнения; разработка и внедрение инструментария осуществления организационно-управленческой власти: регламентов, инструкций, методических рекомендаций и пр.; кадровые перемещения с целью замены менее подготовленных лиц более подготовленными с точки зрения соответствия их задачам, стоящим перед организацией; совершенствование системы внутренней коммуникации и др. Организационные мероприятия проводятся путем прямого и косвенного воздействия на управляющих и на управляемых. Используются правовые нормы и средства общественного воздействия, принуждение и убеждение, авторитет руководителя и влияние общественного мнения. Организационные мероприятия в сочетании с административными средствами воздействия (приказ, распоряжение и пр.) образуют административно-организационные методы.
Политические методы управления (руководства) — это способы прямого или косвенного (в большинстве своем) воздействия на поведение и деятельность управляемых при помощи политических средств. В первую очередь речь идет о государственной политике, разрабатываемой и проводимой правящей властью. Экономическая, социальная, национальная и другие стратегии — важнейшие направляющие факторы воздействия государства на общество и на саму систему управления. Публичная (открытая) политика — организующая и мобилизующая сила. Ее воздействие на управляемые массы и общественные процессы — это влияние общих интересов, концентрированным выражением которых политика является. Политические методы — составная часть демократических технологий управления. Последние слагаются из всего комплекса демократических форм, норм и процедур политических действий и отношений, сложившихся в практике демократических государств. На высшем уровне организации власти ведущее место занимают технологии парламентаризма — нормативно закрепленные формы, способы, средства и процедуры коллективного обсуждения и принятия законодательных актов. Парламентские дебаты, деятельность оппозиции, лоббирование групп и интересов в парламенте, практика депутатских запросов правительству, парламентские слушания — вот лишь некоторые наиболее действенные формы политического процесса.
Стержневой технологией демократии являются публичное обсуждение проектов решений (резолюций, законов и пр.), а также различные виды выборов как формы выражения воли большинства. Референдумы, переговорный процесс, дискуссии «за круглым столом» — методы, широко используемые правящим субъектом для разрешения острых политических, экономических, социальных и других проблем общенационального значения. В общественную жизнь нашей страны в последние годы вошли такие частные технологии реализации политических методов, как политическая реклама, теледебаты по актуальным проблемам, паб-лик рилейшнз (англ. public relations — отношение с публикой) — деятельность государственных и иных организаций, обеспечивающих взаимопонимание и сотрудничество этих организаций с общественностью.
Политические методы не исчерпываются общественными формами воздействия и демократическими процедурами. За этими технологиями стоят инструменты государственной власти и права, единая воля общества. Действие их может проявляться и в прямом принуждении (преследование, репрессии и пр.). Специфика же политических методов — во влиянии на поведение людей, на выбор ими форм участия (или неучастия) в политическом процессе, на отношение к системе господствующих ценностей, на формирование желаемой для государства социально-политической обстановки, на отношение граждан к власти и т.д.
Экономические методы обычно рассматривают в соотношении с административно-правовыми, когда речь идет о проблемах государственного регулирования экономики, о необходимости рационального сочетания административных и рыночных рычагов управления в рамках усиления государственного регулирования социально-экономических и общественных процессов. При этом целесообразно освоение новых методов правовых, экономических, финансовых, организационно-технических, коммуникативных и других рычагов государственного управления [4].
Выдвижение экономических методов на первый план в условиях становления рыночной экономики не означает, что административно-правовые методы управления в этой сфере вообще должны быть устранены, как полагают либералы. В кризисных ситуациях без использования административно-правовых методов не обойтись. Доказательство тому — нынешние проблемы государственного управления в нашей стране. В государственном секторе экономики они будут присутствовать постоянно; однако приоритетными в экономической сфере жизни являются экономические методы. Основное отличие этих методов от административно-правовых, политических и прочих заключается в воздействии материальными, главным образом финансовыми средствами на интересы управляемых. Экономический фактор не есть орудие прямого насилия; он вынуждает управляемых поступать в соответствии с материальными потребностями, со стремлением обладать средствами для их удовлетворения или накапливать таковые.
Экономические методы — это формы и средства воздействия на социально-экономические условия жизни людей, коллективов, социальных общностей, организаций. Распределение и перераспределение материально-финансовых ресурсов государственными органами, регулирование финансовых потоков в стране, разработка и реализация бюджетов — главные инструменты управления экономическими методами. А применительно к человеку — это механизмы материального стимулирования труда и предпринимательства. Важнейший стимул — прибыль; власть богатства, денег.
Социальные методы, как и экономические, используются управляющим субъектом в целях мотивации активности управляемых путем изменения социальной среды обитания и удовлетворения жизненных потребностей и интересов. Сущность социальных методов заключается в воздействии на факторы, мотивирующие движущие силы социальной активности людей, на факторы, блокирующие их влияние, на факторы, вызывающие удовлетворенность человека условиями своей жизни и результатами конкретной деятельности, и те, что обусловливают неудовлетворенность, стимулируют социальную пассивность или даже отчужденность от общественных дел.
Арсенал социальных средств управляющего воздействия на управляемых обширен. Он включает как технологии формирования разумных, соответствующих ценностям системы потребностей, так и средства социального контроля, стимулы, мотивирующие как индивидуальную активность (различного рода социальные оценки и вознаграждения), так и массовую. В числе государственных технологий разработка и осуществление общегосударственных социальных стандартов социальных благ и услуг; законодательное закрепление и реализация прожиточного минимума населения и регулирование на его основе систем оплаты труда и пенсионного обеспечения старших поколений; сочетание в социальной политике государственных форм обеспечения населения и услуг частного сектора, государственной поддержки с рыночными механизмами ее реализации.
Перед органами исполнительной власти и управления страны стоит задача осуществить перестройку всей системы государственной социальной помощи; ввести государственные стандарты в системе общего школьного образования и заложить контроль качества всех видов образования; сформировать систему государственных гарантий бесплатной медицинской помощи; сделать реальные шаги на пути разгосударствления социальной сферы, и т.д. К сожалению, в условиях тяжелейшего экономического кризиса и непоследовательности проводившейся социальной политики, указанные социальные технологии не срабатывают так, как ожидает общество.
Идеологические методы, государственного управления — не пережиток советской системы, как думают многие сторонники концепции деидеологизации государства, а закономерность. Другой вопрос, какая используется идеология: государственная или негосударственная, прогрессивная гуманистическая или реакционная? Для демократического общества неприемлема любая господствующая государственная идеология. Однако это вовсе не исключает необходимости общей, признаваемой большинством населения данного государства, системы идей и духовных ценностей. На их основе, явно или скрыто, строится технология стимулирования социально-политической активности масс и элит, механизмы реализации демократических принципов власти и управления. Так, американскую демократию и все важнейшие документы государства пронизывают три идеологических принципа: равенство людей (все созданы равными); свобода их самовыражения; признание способности каждого и общества в целом к совершенствованию. Эти принципы составляют суть американских либеральных индивидуалистических ценностей, образующих так называемую «американскую веру». В отличие от европейских стран, как отмечают социологи США, в этой стране был и есть широкий консенсус по основным политическим ценностям и убеждениям.
В европейских странах, пишет А.А. Зиновьев, естественным путем сложился идеологический механизм как составной элемент формирования культуры, образования и воспитания, средства массовой информации и государственных учреждений. Эти функции выполняют школы, университеты, газеты, кино, реклама, партии и др. Подобно экономике, в идеологической сфере существует и функционирует «рынок идей»; есть их производители и потребители. Никто принудительно не вдалбливает в головы людей идеологию. Гораздо эффективней действует другой метод: дать людям идеологическую свободу, создать иллюзию идеологического поля и даже идеологического хаоса. Но при этом неустанно вносить в такой идеологический хаос банальные идеи, отвечающие потребностям «деидеологизированных граждан». Идеологическая свобода в условиях западного идеологического поля, отмечает автор, есть гораздо более сильное средство идеологического воздействия на граждан, чем идеологическое принуждение [5].
Идеологический хаос и ценностный духовный вакуум, наступившие в России, убеждают в несостоятельности адептов деидеологизации общества. Прав профессор В. Иванов, утверждая, что такая деидеологизация «означает погружение его в абсурдное состояние, когда борьбу идей заменяет силовая борьба, а осознанная деятельности людей, политических партий и движений подменяется или механическим выполнением указаний «сверху» или столкновением личных амбиций отдельных лидеров» [6]. В этой связи понятно стремление высшего политического руководства страны, поддержанного значительной частью российской капиталистической и интеллектуальной элиты, сформулировать общую для России идею.
Группа крупных предпринимателей в «Обращении к главе Российского государства и ко всем ответственным политикам» пишет, что нельзя выдумывать очередную «национальную идею». Но нельзя жить дальше без настоящей государственной идеологии, опирающейся на чаяния широких общественных слоев, имеющей почву в лучших отечественных традициях, широко и смело открытую будущему страны. Действительно, бесплодно намерение решить важнейшую задачу формирования новой идеологии усилиями узкого круга политических чиновников. Идеология — сердцевина государственного и народного духа, и рождается она не на загородных правительственных дачах, не в заказных газетных дискуссиях, а в гуще общественного исторического творчества как синтез духовных традиций и инновационных идей интеллектуальных кругов общества.
Идеологические методы заменяют технологию административного командования и правового принуждения. Их действие ориентировано на активизацию общественной сознательности людей и подчинено формированию системы мотиваций, соответствующей целям государственной политики. Практические формы реализации идеологических методов разнообразны, главное же — пропаганда общественно значимых идей и духовных ценностей всеми возможными современными средствами, через деятельность всех институтов обучения и воспитания и, конечно же, средств массовой информации. Элементы идеологических технологий: концепции, идеологические установки, призывы, лозунги, государственные символы, политически и идеологически ориентированная терминология. Способ воздействия — убеждение людей, манипулирование массовым сознанием и поведением. Временами начинают доминировать агрессивные технологии идеологического принуждения, духовного насилия над личностью. Борьба идеологий может приобретать острейшие формы и провоцировать политическое противостояние, доходящее до насильственных конфликтов. Цивилизованные правила государственного управления, разумеется, исключают подобные последствия применения идеологических методов.
Информационные методы — совокупность информационных технологий воздействия на объект управления. Средство воздействия — различные виды информации: служебной, научной, пропагандистской и пр. Основное орудие информационных технологий — современная индустрия массовой информации. Информация как элемент управленческого воздействия пронизывает все способы управления, и поэтому рассматриваемые методы реализуются в составе всех других методов. Самостоятельно действующими они являются в политике и специализированных отраслях духовной жизни: в науке, идеологии, телерадиовещании, печати и др.
Информационные технологии нацелены как на косвенное, так и на прямое влияние на управляемых. Они формируют соответствующие алгоритмы действий, ориентации и установки, убеждения и культурные (или контркультурные) образцы, способствуют интеграционным или дезинтеграционным процессам. Информационная деятельность превратилась в специализированную функцию системы и составляет неотъемлемый элемент любого вида управленческой деятельности и отношений — коммуникативные взаимосвязи. Для нормального функционирования властей в условиях, когда возникла «система вездесущих средств массовой информации», пишет французский политический деятель М. Рокар, нужно сделать их «составной частью управления» [7]. Огромная роль СМИ в жизни государства и общества побудила органы власти к созданию законодательной базы их функционирования.
Социально-психологические методы важны потому, что результаты работы управляющей системы во многом (а иногда в решающей степени) зависят от такого фактора, как социально-психологическая атмосфера, общественные настроения. Внешние условия жизнедеятельности человека регулируются административно-правовыми, экономическими и другими методами. Социально-психологическое же состояние людей не поддается непосредственному воздействию этих факторов. Социально-психологические методы — это комплекс приемов и средств целенаправленного формирования умонастроений, общественных чувств, психологических состояний, общественного спокойствия или напряженности, массового оптимизма или пессимизма, общественной активности или нигилизма, социальных ожиданий, предпочтений, ориентации и т.д. В системе государственного управления нет специальных институтов, которые бы занимались исключительно вопросами формирования социально-психологической атмосферы в обществе. Эта работа ведется в первую очередь средствами массовой информации, идеологическим организациями, учреждениями литературы и искусства, а также церковью. Государство не может навязывать принудительно тот или иной социально-психологический проект. Ориентиром для деятельности данных организаций служит государственная политика, ее сущность и направленность.
Социально-психологические технологии используются в мани-пуляционных методах. Манипуляция (франц. manipulation, от лат. manipulus — пригоршня, горсть, manus — рука) — система приемов социально-психологического воздействия на массы с целью изменения их взглядов и поведения в желаемом для манипулирующего субъекта направлении. Манипулирование осуществляется главным образом с помощью средств массовой информации. Приемы манипуляции разнообразны: сознательная неадекватная актуализация событий, идей, мнений, обычаев, стереотипов поведения; искаженное освещение исторического прошлого и явлений современности; односторонний подбор фактов и аргументов и т.д.
Широко используются языковые средства, например, манипуляция терминами, технология подачи информации (акценты, иллюстрации, сюжеты и пр.).
В реальном процессе функционирования системы государственного управления описанные методы и технологии используются в различных комбинациях. В авторитарных системах имеют приоритетное значение административно-принудительные или административно-командные методы, в демократических — административно-правовые (с акцентом на правовые), политические и социально-психологические методы и технологии. Мобилизационные стратегии управления реализуются преимущественно технологиями принуждения и идеологического влияния, а стратегия участия (сознательной активности управляемых) — в первую очередь путем формирования социальных стимулов и мотивации свободной деятельности.
Приоритетность определенного вида метода для данной государственной системы не отменяет общего правила — комплексного использования различных методов. Коль скоро государственные решения многоцелевые, то и реализация их может быть осуществлена не одним, а совокупностью способов и средств управляющего воздействия на управляемый объект, при ведущей роли тех, которые соответствуют политической природе системы. Диктаторский режим, управляя обществом административно-принудительными методами, широко использует идеологические и социально-психологические средства воздействия на подданных. Противоположный ему демократический режим, отвергая насилие над человеком, не обходится без применения легитимного принуждения.
2. Стиль государственного управления
Анализ средств и методов принятия и исполнения государственных решений был бы неполным, если не рассмотреть вопрос о стиле управления. Понятие стиля достаточно широко используется при исследовании управленческого процесса в литературе как по социальному менеджменту, так и по государственному управлению. Правда, взгляды по этому вопросу высказываются разные, что вполне естественно, поскольку речь идет о различных научных дисциплинах. Тем не менее, характер постановки проблемы однозначен: она вытекает из логики анализа процесса выбора. Но теперь уже речь идет о выборе не целей и стратегии, а разнообразных индивидуализированных вариантов поведения и приемов действий и взаимодействий управляющих и управляемых на протяжении всего процесса принятия и исполнения решений.
Понятие стиля управления обозначает совокупность объединенных общей идеей специфических средств и приемов технологии управления, типичных для данного субъекта. Это понятие характеризует особенность способов управленческого действия, используемых конкретными субъектами, отражает гамму субъективированных технологий принятия и реализации решений.
Стиль управления не следует сводить только к каким-либо отдельным методам или приемам, стереотипам или оригинальным подходам, а также индивидуальным характеристикам взаимоотношений руководителей с подчиненными. В нем переплавлены, синтезированы элементы различных методов и технологий, правила поведения, коллективные и индивидуальные социокультурные позиции и установки. Стиль — это единое образование, сформировавшееся главным образом целенаправленно на основе определенной идеи — концепции государственного управления и, конечно же, — практического опыта.
В научной литературе описаны различные виды управленческих стилей. Важно прежде всего отметить существование стилей коллективного управления — государственного органа, организации и субъекта индивидуального — конкретного руководителя, должностного лица. Присущие им общие признаки конкретизируются и дополняются индивидуальными, обусловленными как спецификой профессиональной деятельности, так и личностными качествами.
Концепция, принципы системы определяют общие признаки стиля государственного управления — то особенное многообразие способов и приемов принятия и исполнения решений, которое демонстрирует коллективный управляющий субъект (государственные органы всех уровней). Например, ориентации на определенные методы как приоритетные для субъекта; предпочтения тем или иным мотивирующим стимулам активности (материальным либо социальным), склонности к определенным видам технологий принятия решений (инновационным или рутинным) и т.д. Индивидуальные субъекты вносят свой вклад в гамму многообразия управленческого поведения и действий, придавая официальному стилю коллективного государственного органа личностно-индивидуальный, неформальный характер. Если стиль коллективного субъекта воплощает собою общегосударственные ценностные установки, общую идеологию управления, то в стиле индивидуальных управляющих субъектов реализуются личностные ценности и представления, в которых отражаются общие. Отражаются, кстати сказать, не всегда адекватно, вследствие чего индивидуальные стили могут существенно отличаться от общего.
Известно, что индивидуальный субъект осуществляет свои руководящие функции, реализуя как формальные должностные полномочия, так и влияние, источником которого является его личный авторитет. На пересечении этих двух видов властных воздействий полномочий рождается стиль руководителя. В нем аккумулируются профессионализм и опыт руководителя, его понимание стратегии управления и способность к самостоятельному решению задач, умение работать с людьми и быть не только администратором, но и лидером.
Стиль деятельности коллективного государственного субъекта управления определяет основные черты стиля индивидуального субъекта. Тем не менее нельзя недооценивать влияния последнего. Больше того, в системе государственного управления может при определенных условиях приобретать решающее значение стиль лидера — субъекта высшей власти. Стиль вождя в авторитарном государстве становится образцом для деятельности всей государственной системы управления. Стиль авторитарного, признанного данным сообществом, политического лидера, как правило, превращается в критерий оценки качества руководителей всех уровней и рангов.
Так же, как нет извечных систем государственного управления, принципов и целей, так не может быть и каких-то универсальных стилей управления. И хотя стили — явление достаточно стабильное, сродни, скажем, характеру человека, тем не менее, они реактивны. На изменение стилей государственного управления влияют многие факторы. Отметим два из них, наиболее значимых. Первое — концепции государственной политики, стратегические цели и принципы системы государственного управления. Второе — конкретные условия государственного управления, складывающиеся на том или ином этапе развития политической системы, а также управленческие ситуации, в которых функционируют конкретные управляющие субъекты.
Концептуально-стратегические факторы обусловливают разделение стилей государственного управления на два типа: авторитарный и демократический. Они порождаются соответствующими политическими режимами. Переходное состояние систем власти и управления обусловливает разновидности смешанных авторитарно-демократических стилей. Какие именно — это уже зависит от конкретных условий функционирования управляющей системы и конкретных управленческих ситуаций, складывающихся на ее различных иерархических уровнях.
Авторитарный стиль характеризуется жесткой централизацией решений и их безальтернативностью. Всевластие высшего управляющего центра (в лице одного правителя или узкой группы правящей элиты) и безвластие нижестоящих органов управления исключает участие последних (не говоря уже об управляемых) в выборе целей, путей и средств их осуществления. Высшая руководящая власть всегда права; она никогда не ошибается; только главе государственной иерархии принадлежит право на принятие решений. Таков стереотип авторитаризма. Соответствующим образом ведут себя подчиненные субъекты, возглавляющие подведомственные им организации. Будучи бесправными по отношению к высшему правителю, они делают таковыми же по отношению к себе членов организации. Единственная вертикаль власти и управления — сверху вниз — сводит к минимуму самоорганизацию управляемых.
Безусловная централизация решений обеспечивается соответствующим однонаправленным (сверху вниз) контролем исполнения, причем контролем главным образом за процессом действий, а не за результатом. Отсюда более высокая мотивация выполняемой деятельности и менее — ее производительности, эффективности.
Авторитарный стиль управления базируется на самом широком применении административно-командных методов, представляющих деформацию административно-правовых. Правовая основа (закон) управляющего воздействия подменяется целесообразностью либо вообще немотивированной волей начальника. Право субъективистски интерпретируется как воля господствующего класса, возведенная в закон. В свою очередь за последнюю выдается воля правящей олигархии. Харизма вождя (лидера), вера в его мудрость и справедливость — основа легитимности системы управления.
Административно-командные методы смягчаются, а точнее, дополняются комплексным применением политико-идеологических и манипуляционных методов. Политизация и идеологизация управленческого процесса — существенная черта авторитарного стиля. Она обусловлена самой концепцией режима: человек — не цель, а средство достижения цели господствующих классовых сил. Жесткая централизация решений и всесилие правящих верхов существует благодаря монополии на информацию. Строгая регламентация информационных потоков, однонаправленность их сверху вниз, ограниченность информации текущими задачами исполнительской деятельности аппаратов управления — эти приемы также в арсенале стиля авторитарного субъекта государственного управления.
Наконец, авторитарный стиль отличается такой совокупностью средств и приемов, таких мотиваций управленческих действий и отношений, которые постоянно порождают конфликты между властью и обществом и блокируют общественное согласие. Цели государственного управления навязываются обществу; они не отражают запросы масс.
Авторитарный стиль деятельности государственных органов (коллективного субъекта) олицетворяется в поведении индивидуальных субъектов, хотя прямой причинно-следственной связи здесь нет. В поле авторитарного управления могут формироваться и жить островки демократического. Чем дальше от центра, тем чаще они встречаются. На низшем уровне управления авторитарные тиски государственного субъекта сжимают рамки поведения индивидуальных субъектов намного меньше. Его стиль поведения больше зависит от конкретной управленческой ситуации и личностных качеств. Например, в условиях авторитарного режима в советское время на уровне местного управления административно-командный стиль сосуществовал с демократическими методами; руководители авторитарного типа уживались с формальными и неформальными лидерами демократического характера.
Авторитарный стиль индивидуального руководства достаточно широко освещен в литературе по социальному менеджменту; охарактеризованы параметры взаимоотношений руководителя с подчиненными. Так, Л.Н. Албастова отмечает, что главным критерием авторитарного стиля является единоличный способ принятия решений. Приверженный этому стилю руководитель доводит до сведения сотрудников только часть информации, которую он считает нужной для них; сообщает свое решение в форме приказа; подавляет инициативу подчиненных и т.д. [8].
Думается, что яркой иллюстрацией авторитарного стиля руководства служит принцип трагически погибшего красноярского губернатора (генерала в отставке) А.И. Лебедя: «Я власть! Выше меня в крае стоять никто не будет» [9].
Демократический стиль государственного управления противоположен авторитарному. Альтернативный выбор целей, осуществляемый коллегией, коллективное обсуждение проектов и принятие решений под руководством высшего должностного лица и под его персональную ответственность — важнейшая черта демократического стиля. Другие существенные признаки стиля: централизация решений, закономерная в системе государственного управления, сочетается с децентрализацией и ограничивается ею; смещение процесса принятия решений из центра на нижестоящие уровни, где субъекты обладают информацией для адекватной подготовки решений и где возникает ситуация, требующая принятия решений [10].
Демократический стиль характеризуется двусторонними потоками информации, причем полной, а не дозированной по воле начальства, как главного условия децентрализации решений, а также двунаправленным контролем исполнения — сверху вниз и снизу вверх. Контролирующая деятельность ориентирована главным образом на результат, хотя не остается вне его и процесс действий.
Демократический стиль предполагает комплексное применение различных методов управления и стимулов активизации: административно-правовых, экономических, социальных, информационных, материальных и нематериальных и других — в рамках единого правового поля, т.е. в строгом соответствии с законом. Концептуальная идея демократического стиля: человек—цель, определяющая (но не оправдывающая) средства ее реализации. Основная мотивация решений — интересы, ценности и цели общества, человека. Демократический способ принятия и исполнения решений обеспечивает институционализацию конфликтов, их регулирование и разрешение, а следовательно, стимулирует общественное согласие, а не конфронтацию.
Существенная особенность демократического стиля заключается в его ориентации на реализацию необходимого разнообразия общественных процессов, на блокирование принудительной унификации потребностей и интересов людей, противоестественной для общества. Сочетание государственного управления с самоорганизацией управляемых — принцип демократического стиля.
Обозначенные нами общие черты демократического стиля государственного управления модифицируются и обогащаются индивидуально-личностными приемами поведения и деятельности отдельных руководителей. Акцентирование свободы выбора и разнообразия поведения управляемых дает «мягкую» модель индивидуального демократического стиля — либеральный стиль. Еще раз обратимся к работе Л.Н. Албастовой, в которой подробно описываются рассматриваемые стили. Автор характеризует, в частности, демократический стиль как способ принятия руководителем решений с участием сотрудников. Указываются такие действия, как сообщение сотрудникам полной информации; использование предложений и просьб членов организации; распределение ответственности в соответствии с переданными полномочиями; использование различных видов поощрений и стимулов активизации и т.д. [11].
Не вдаваясь в вопрос о либеральном стиле, отметим лишь негативные аспекты, проявившиеся в российской государственной жизни. Его характеристики — «нейтральный», «попустительский» — приобрели реальные очертания в комплексе разрушительных для системы государственного управления явлений. Либеральное поведение органов управления сегодня ассоциируется с правовым нигилизмом и с позицией невмешательства государства в жизненно важные для общества социально-экономические и социокультурные процессы, с официальной установкой на социально-неограниченную свободу индивида, а по сути — на анархистское общественное поведение. Либеральный стиль в государственном управлении в интерпретации российских либералов равнозначен концепции стихии. Проявляется диалектика взаимопревращения противоположностей: господство в прошлом авторитарного стиля сменяется внедрением стиля попустительского.
Жизнь подтверждает положение науки об относительности разграничения стилей управления и реальности смешанных стилей. Таким является бюрократический стиль. В нем переплетаются элементы авторитарного и демократического стилей управления.
Бюрократия (в пер. с фр.: власть канцелярии) — понятие, за которым закрепилось двойственное содержание. Одна трактовка понятия идет от немецкого социолога М. Вебера. Бюрократия — это рациональная организация государственного управления, которая характеризуется: а) эффективностью, достигаемой за счет строгого распределения обязанностей; б) обязательной иерархи-зацией властных отношений, позволяющей осуществлять контроль сверху вниз; в) формально установленной и зафиксированной системой правил, обеспечивающей единообразие в управлении и применении общих правил к частным случаям; г) безличностным характером административной деятельности, стоящей над человеческими отношениями и эмоциями.
Отмеченные черты бюрократической организации сформировались в лоне авторитарной системы. Однако они свойственны деятельности демократической системы. Более того, государственное управление вообще невозможно без регламентированной правовыми нормами и правилами структуры организационных отношений, без централизации решений (в необходимых рамках), без иерархической структуры государственной власти, наконец, без специального, профессионально подготовленного, аппарата управления, функционирующего на всех уровнях системы и практикующего присущий ему аппаратный (по природе авторитарный) стиль деятельности.
Бюрократия как рациональная организация государственного управления обеспечивает стабильность государственного организма, является необходимой предпосылкой его развития. Анализируя взаимоотношение политиков и бюрократов в системе государственного управления экономикой в США, американские ученые В. Рич и М. Винн пишут, что в «недрах бюрократии скрыты надежды на повышение производительности». Авторы одновременно подчеркивают проявление «бюрократической инертности», «саботажа и своеволия» чиновников, отмечают противоречия между бюрократами и политиками, возникающие по поводу привлечения граждан к управлению. Разногласия с политиками оказывают негативное влияние на управление, и тем не менее бюрократы препятствуют «политическим эксцессам» [12].
Будучи рациональной формой организации государственного управления, воплощая собою важнейший его принцип — формально-правовое, властное начало, бюрократия исторически, генетически и функционально связана с демократией, равно как и противоречива по отношению к ней. Взаимосвязь бюрократии и демократии проявилась в том, что развитие бюрократии фактически содействовало становлению демократии. В большинстве западных стран бюрократия и демократия развивались почти одновременно. С уходом с политической арены монархий и установлением парламентских режимов, с возникновением многопартийности и распространением всеобщего избирательного права, других демократических технологий роль бюрократии (административного управленческого аппарата) усилилась. В то же время по мере увеличения власти бюрократии происходило дальнейшее развитие демократических институтов и методов управления (13).
Следовательно, понятие бюрократии как рациональной организации государственного управления и производного от него понятия бюрократического стиля изначально не имеют в себе негативно-оценочного аспекта. Данные понятия характеризуют аппарат государственного управления, особенную организацию его деятельности и специфическую для этого аппарата совокупность способов и приемов поведения и деятельности. Бюрократический стиль включает многие черты авторитарного (жесткую централизацию решений, господство власти над человеком и др.), но не тождествен ему. Авторитарный стиль государственного управления далеко не всегда может быть рациональным способом деятельности правящих субъектов. Стиль правления любого диктатора авторитарный, в главном — иррационален. Демократическая система управления по определению противоположна авторитарной. Однако бюрократический стиль — неотъемлемая черта демократического аппарата и соседствует с противоположным стилем.
Теперь о понятии «бюрократизм» и соответствующем ему — «бюрократизированный стиль» управления. Содержание данных понятий иное, в отличие от рассмотренных; они изначально негативно-оценочные и отражают субъективно деформированный характер мышления и деятельности государственного аппарата и госслужащих. Основной источник деформации — абсолютизация властными структурами сущностных признаков административно-управленческой деятельности. Бюрократизм, или бюрократизированный стиль управления (для нас данные понятия тождественны) есть образ поведения и деятельности исполнительного аппарата, отличающийся тем, что акцент целей организации переносится на средства, следование формальным, нормативным правилам и соблюдение незыблемости иерархии властных отношений противопоставляется содержанию деятельности. Формальное, по словам Маркса, выдается за содержание. Бюрократизм — образ мысли и действия управляющего субъекта, присвоившего государственные функции и подчинившего их защите своих корпоративных интересов, а также обеспечению собственного сохранения и воспроизводства. Безличностный характер администрирования и эмоциональную нейтральность отношений с управляемыми бюрократизированный субъект интерпретирует в смысле постулата, сводящего человека к функции, к некоторой детали управленческой деятельности. Он использует профессиональные знания для обоснования своего господства над управляемыми массами; связывает овладение знанием с управленческой иерархией («начальство все знает»). Чем выше начальство стоит в иерархической организации власти, тем больше оно квалифицируется как носитель знания. Для мышления бюрократизированного чиновника авторитет власти есть принцип знания, а обоготворение авторитета — образ мысли (Маркс). Бюрократизированный стиль управления — это стереотипизация мышления и действия, догматизм, боязнь инноваций и связанного с ними риска, рутинный характер принимаемых решений, наконец, игнорирование инициативы и самоорганизации управляемых. Подобный стиль не может рассматриваться иначе как злокачественный нарост на рациональной организации деятельности аппарата государственного управления. Почва для бюрократической патологии сохранится до тех пор, пока будет потребность в специализированном аппарате управления, способном стать выше общества. Борьба с этой патологией бесконечна.
Стремление некоторых авторов доказать, что государственная собственность и отсутствие полноценной частной собственности в советский период стали экономической основой «мощного процесса бюрократизации» государственного аппарата, по меньшей мере малоубедительно. Как известно, бюрократизм рожден не общественной собственностью, а социальным строем, базирующимся на частной собственности. Он существовал и процветает в государственных системах, где никогда не было ни коммунистической монопартийной диктатуры, ни иерархического партийного аппарата.
Итак, понятие бюрократии не следует отождествлять с понятием «бюрократизм», а бюрократический стиль управления как образ рациональной формализованной деятельности и поведения государственного аппарата — с бюрократизированным стилем — деформацией рациональной организации управления. Но было бы ошибочно думать, что специфические черты рациональной бюрократической организации несут в себе при любых условиях только позитивный потенциал административной деятельности. Отнюдь нет.
Идеальная модель государственной бюрократии была создана М. Вебером в первой четверти XX в. на основе анализа бюрократии Германии. В государственном управлении, как и управлении производством, в наше время произошли фундаментальные изменения, связанные с научно-технической и информационной революциями и прогрессом в области демократии. Те модели управления и поведения руководителей, которые в прошлом были идеальными, в современных условиях превращаются в препятствие для рационального администрирования. Жестко регламентированные структуры, исключительно формализованные, иерархические взаимоотношения управляющих с управляемыми; исполнение управленческих функций одним аппаратом госслужащих без привлечения общественности; канцелярские технологии; устойчивая стабильность управленческих связей и коммуникаций; воздействие на управляющего только приказом и применением негативных санкций — все эти элементы бюрократической (административно-государственной) модели управления уже эффективно не работают, а являются питательной базой для возникновения описанных выше деформаций, именуемых бюрократизмом.
Вполне закономерно, что в наиболее динамичной сфере управления — в современном менеджменте — превалирует тенденция отказа от бюрократической модели. Директор одной из американских компаний Д. Хэмптон пишет о «закате бюрократии». Управляющие организации в условиях приближающегося будущего смогут осуществлять свою роль, овладевая «антибюрократическими стилями поведения». Автор имеет в виду такие поведенческие функции, как поощрение сотрудничества подразделений организации, что значительно облегчает достижение целей организации; полная децентрализация принятия решений, необходимость принимать решения, где есть информация для адекватной подготовки и мотивации сотрудников; требование самоуправления, реализация которого позволит управляющим высшего звена больше осуществлять функции руководства; взаимный контроль руководителей и членов организации. В новых условиях будут изменяться «рычаги власти», применяться более мягкие формы наказания, произойдет замещение насилия и капитала как рычагов власти знаниями. В передовых организациях не может быть «иерархического» управляющего. Перспективные сотрудники хотят работать под началом и в команде с людьми, обладающими навыками тренера, учителя и педагога.
Они не хотят и не нуждаются в «боссе» как таковом. Дальнейшее использование бюрократической модели управления в организации будущего не имеет перспективы, потому что для бюрократических, жестко регламентированных структур характерна медлительность в сборе и использовании знаний, представляющих наиболее мощное средство власти; они не могут быстро и точно реагировать на новые знания; в таких структурах ограничены каналы связей между организациями и сотрудниками [14].
Описываемые «антибюрократические стили», возникающие в управлении материальной сферой деятельности, получат распространение и в административно-государственной сфере.
Словом, классическая бюрократическая модель преобразуется в современные модели; бюрократический стиль управления уступает место (в частности, в современном менеджменте) антибюрократическим стилям. Их можно было бы назвать гуманистическими, поскольку в управлении преобладают факторы, мотивирующие демократическое участие людей в достижении целей организации и развитие их творческого потенциала, а не факторы, принуждающие к решению управленческих задач силой административной власти.
Происходит модификация индивидуальных стилей управления. Традиционная их типология не полностью отражает уже существующие новые виды. Согласно поведенческой теории (США), различаются четыре стиля поведения, обладая которыми управляющие могут стать хорошими руководителями (лидерами).
1. Автократический стиль. Лидер отдает приказания и добивается их исполнения, используя полномочия награждать или наказывать.
2. Поддерживающий стиль. Лидер такого типа создает коллектив, в котором каждому хочется делать все хорошо без принуждения. Он проявляет внимание к своим подчиненным, советуется при принятии решений и руководит ими в общем плане, без мелочной опеки.
3. Стиль, ориентированный на задание. Лидер мобилизует имеющиеся ресурсы, распределяет задания, составляет планы, графики и устанавливает нормативы.
4. Ситуационный стиль. Действие лидера взаимодействует с переменными управленческой ситуации. Деятельность группы направляется в соответствии с целями организации и корректируется с изменением ситуации [15].
Сравнивая описанные стили с традиционными, читатель найдет в их содержании элементы авторитарного, демократического и либерального. Вместе с тем здесь просматриваются черты антибюрократических стилей. Определение «гуманистические», думается, вполне корректно по отношению к поддерживающему, ориентированному на задание и ситуационному стилям поведения лидеров.
Рассмотренные нами стили управления в разных комбинациях проявляются в практической деятельности государственных субъектов. Интегрирующим же остается стиль рациональной бюрократической организации, государственной бюрократии. Его стержнем является совокупность приемов, технологий реализации политической и административной властей. Политические институты и их субъекты ориентируются преимущественно на демократическую модель стилей и ее гуманистические разновидности; исполнительные органы и субъекты, реализующие их функции, — на авторитарную (бюрократическую).
***
Анализ управленческих решений позволяет сделать ряд обобщающих выводов. Во-первых, логика разработки, принятия и исполнения решений выражает объективную взаимосвязь управленческих функций; этапы процесса решений определяются необходимой последовательностью реализации функций. Все функции управленческого процесса реализуются в политических решениях стратегического характера. В других видах решений реализуются отдельные функции. Во-вторых, процесс решений характеризуется единством целей, направлений, задач, средств, методов, стилей (технологий) управленческого действия. В зависимости от характера целей, решения и технологии по их осуществлению акцентируются на мобилизационный тип деятельности управляемых или на участие, включающее самоуправление, самоорганизацию. В-третьих, процесс решений в системе государственного управления организационно и функционально базируется на конституционных установлениях и регулируется соответствующими конкретными нормативными актами и предписаниями. В-четвертых, необходимость оптимального сочетания коллективного обсуждения и принятия решений и единоличной ответственности руководителя — один из демократических принципов управления. В-пятых, процесс принятия и исполнения решений носит проблемно-ситуационный характер: конкретный анализ ситуаций — метод выявления проблем, требующих решений, и определения практических задач по реализации намеченных целей. В-шестых, решения обеспечиваются соответствующими кадрами — руководящими и исполнительскими. Институт государственной службы — локомотив политических и административных решений.
Данные выводы носят концептуальный характер и могут рассматриваться как принципы государственных решений.
Литература
1. Албастова Л. Технологии проведения социальных инноваций в органах власти // Эффективные технологии в системе государственного и муниципального управления. - Ростов н/Д, 1999. С. 246-249.
2. Шабров О. Управление и самоорганизация как формы стабильности и развития // Эффективные технологии в системе государственного и муниципального управления. С. 183.
3. Колл Д. Организационные модели и структуры // Современное управление. Т. 1. С. 55.
4. Джаримов А. Формирование системы власти Республики Адыгея и адаптация современных технологий к условиям полиэтнического региона // Эффективные технологии в системе государственного и муниципального управления. С. 59—60.
5. Зиновьев А.А. Запад. Феномен западнизма. М., 1995. С. 329.
6.Иванов В. Технологии формирования эффективной политической власти // Эффективные технологии в государственном и муниципальном управлении. С. 90.
7.Рокар М. Указ. соч. С. 166.
8.Албастова Л.Н. Технологии эффективного менеджмента. М., 1998. С. 252-256.
9. Парламентская газета. 1999. 12 мая.
10.Хэмптон Д. Организация будущего. С. 71.
11.Албастова Л.Н. Технологии эффективного менеджмента. С. 252-258.
12.Рич В., Винн М. Политические аспекты производительности в государственном секторе // Эффективность государственного управления. С. 121—124.
13.Зеркин Д.П. Основы политологии. С. 417.
14.Хэмптон Д. Организация будущего. С. 69—71.
15.Марш Д. Теория и практика управления. С. 1, 15.
Глава 10. Понятие эффективности государственного управления и ее критерии
Проблемы эффективности государственного управления в первом ряду тех, которые находятся в центре внимания современной науки и практики. Подтверждением тому, в частности, служит энциклопедический труд американских ученых и специалистов — «Эффективность государственного управления» (Marcel Dekker ins. 1992. - М., 1998). Анализу этой проблемы посвящены многие работы ученых Российской академии государственной службы при Президенте РФ и подведомственных ей образовательных учреждений, в том числе Северо-Кавказской академии государственной службы3[3].
Вопросы «измерения» эффективности рассматриваются в курсе лекций Г.В. Атаманчука «Теория государственного управления». — М., 1997 (2-е изд., дополн. 2004). Авторы, в том числе зарубежные, подчеркивают значительную актуальность проблемы для современной России. Нельзя не согласиться, например, с высказыванием проф. М. Хольцера в предисловии к изданию на русском языке названного труда: «Будущее демократических структур власти в России на всех уровнях во многом зависит от их способности обеспечить в условиях жестко ограниченных ресурсов удовлетворение самых насущных потребностей отдельных граждан и общества в целом... Долгосрочный характер и стабильность позитивных перемен определяется реальным повышением производительности... тем, что эффективнее работают государственные структуры, предоставляющие населению разнообразные услуги, тем... насколько в действительности удается любым организациям, декларирующим своей целью «служение интересам народа», получать реальные конечные результаты, на основании которых можно судить о достижении поставленной цели» [1].
В данной главе предстоит выяснить круг вопросов, составляющих содержание проблемы эффективности государственного управления; обобщить некоторые имеющиеся в литературе наработки и попытаться разобраться в вопросах, еще недостаточно освещенных.
Содержание понятия «эффективность деятельности» вообще известно — это обозначение любой деятельности, включая управленческую, как производительной, продуктивной, результативной. В экономической науке обстоятельно разработана категория экономической эффективности и соответствующие критерии ее оценки. В современном менеджменте сделано то же самое применительно к управлению организацией (фирмой) в условиях рыночной конкуренции. Они могут быть использованы при определении рассматриваемого нами понятия эффективности государственного управления. Однако полной экстраполяции (перенесения) признаков понятий экономической или управленческой эффективности быть не может.
Проблема — в особенности государственного управления как деятельности, отличающейся от других видов управления прежде всего тем, что она осуществляется при помощи государственной власти и государственными органами. Тем также, что, как отмечалось, приоритетную роль здесь играет политическое руководство, политика, являющаяся концентрированным выражением общественных интересов социальных групп и граждан. Поэтому содержательное определение понятия «эффективность государственного управления» и ее критериев не есть технологическая операция, скажем, по модели: «затраты — выпуск», а представляет собою элемент управляющей деятельности политического субъекта, несущий в себе некоторый политический аспект.
Скажем так: эффективность определяется не столько традиционными объективными показателями действенности решений по типу: «затраты-выпуск» или «затраты-результат», а по соотношению результатов и использованных разнообразных ресурсов достижения стратегических целей политической системы и реализации общих государственных интересов. Критерий соотношения затрат и результатов используется как условный показатель эффективности отдельных, конкретных решений, но смысл данных терминов интерпретируется в более широком плане, нежели, скажем, в экономическом анализе. Деятельность может быть эффективной — экономичной (с точки зрения минимизации затрат), однако совсем не эффективной в плане достижения поставленных социально-политических целей. Эффективная деятельность как результативная в социально-политическом аспекте далеко не всегда является экономичной, тем более рентабельной. Даже в управлении фирмой, предприятием понятия: «эффективность», «экономичность», «рентабельность» не рассматриваются как односмысловые [2]. Тем более, если речь идет о государственных организациях и их деятельности, результаты и последствия которой проявляются в широком круге общественных процессов.
Сказанное подводит нас к выводу: понятие эффективности государственного управления предполагает такое определение, в котором отражается специфическая сущность его как деятельности социально-политически целесообразной и целенаправленной. В первом приближении его можно было бы охарактеризовать так: эффективность государственного управления есть понятие, обозначающее соотношение результатов и достигнутых общественных целей, результатов и использованных государственных ресурсов. Эффективное управление — это деятельность с наилучшими из возможных результатов по удовлетворению общественных потребностей и интересов в условиях регламентации ресурсов государством.
Эффективность — показатель того, насколько полно усилия (ресурсы), затраченные управляющим субъектом и обществом на решение поставленных проблем, реализованы в социально значимых конечных результатах.
Таким образом, категория «эффективность государственного управления» определяется через понятия: «общественные цели», «результаты», «общественные потребности и интересы». Каждое из них отражает специфические признаки государственного управления с аспектом политического. «Общественные цели» — в конечном счете — это политически значимые цели; «результаты» — объекты, услуги, процессы, связанные с удовлетворением общественных потребностей и интересов (выраженных в политике); «государственные ресурсы» — экономический, социальный, политический, идеологический и информационный капиталы, регламентированные государством как в плане общественной целесообразности и возможности, так и правовой обоснованности.
Специфическое содержание понятия «эффективность государственного управления» можно также определить через модель — соотношение «вход-выход», характеризующую деятельность политической системы в целом и подсистемы управления как ее части. На «входе» системы: требования общества (управляемого объекта), обусловливающие принятие соответствующих решений, и поддержка управляющего субъекта — легитимность (доверие общества) и ресурсы, которыми располагает государство для реализации возможных решений. На «выходе»: реальное изменение объекта как следствие осуществленных решений и достижения целей управляющего субъекта (системы). Внутри системной модели «вход-выход» формируются и действуют подсистемы, дублирующие системную в применении к анализу эффективности как внутренней управленческой деятельности отдельных органов государства по отношению к другим органам, так и внешней — по отношению к обществу или его части. В таком контексте используются понятия: «частичная эффективность» и «полная эффективность». Первая характеризуется показателями результативного решения части проблем, отдельных составляющих общей цели; вторая — показателями успешного решения всего комплекса проблем, образующих общую, конечную цель управляющего субъекта. Для системы государственного управления в целом рассматриваемое понятие трактуется преимущественно как «полная эффективность».
Определив понятие «эффективность государственного управления», необходимо перейти к выяснению основного вопроса — о критериях эффективности. В нем — суть проблемы.
Понятие «критерий эффективности» государственного управления обозначает признак или совокупность признаков, на основании которых оценивается эффективность системы управления в целом, а также отдельных управленческих решений. Стержневым элементом данного понятия является термин «оценка».
Его специфический смысл предопределяет неоднозначность процедуры оценивания людьми результатов и последствий одних и тех же действий и решений управляющего субъекта.
Оценка эффективности государственного управления необходима как для государственных органов власти, так и для общества. Обществу она позволяет контролировать качество деятельности государственных институтов. А руководителям и государственным служащим нужна для самоконтроля, для усовершенствования управленческого процесса. Проблема оценки эффективности — это проблема анализа управленческой деятельности и принимаемых решений.
Оценка как ядро понятия «критерий эффективности» — термин, производный от понятия «ценность». Последний указывает на общественное значение тех или иных явлений (социальных и природных). Объектами оценки выступают разнообразные результаты управленческой деятельности: жизненные средства, виды общественных отношений, процессы, конкретные акты деятельности и пр. Они именуются «предметными ценностями». Объекты оцениваются, т.е. определяется их общественное значение, в соответствии с идеалами, принципами, целями, концепциями, нормами и т.д. Данные явления относятся к числу «субъективных ценностей». Их следует отличать от «предметных ценностей» (объектов оценивания).
Каждой политической системе присуща своя система и иерархия ценностей, объективно обусловленные основами бытия государства и интересами общества. Система ценностей есть плод коллективного исторического творчества данного сообщества людей, отражающая результат взаимодействия политического сообщества со средой, а также социальных взаимоотношений между его членами. Система ценностей конкретного политического союза (государства) не охватывает все их многообразие, существующее в социальном мире (например, моральных, эстетических, научных, да и политических). Она слагается из тех, наиболее значимых для существования и функционирования политического союза ценностей, которые зафиксированы в конституционных основах государственного строя, в идеологии, политических принципах и целях государства, воплощаются в политической стратегии, а также в принципах, концепциях и целях деятельности управляющего субъекта.
Базовые ценности современного Российского государства — это политическая демократия (народовластие), суверенитет государства, его целостность и безопасность, правовой закон, политические и социальные права и свободы человека, свободный труд, основанный на многообразии собственности на средства производства, плюрализм и др. Известно, что миллионами россиян признаются многие другие, традиционные ценности. К примеру, социальная справедливость, соборность (коллективизм), православные ценности.
Все они заложены в критериях определения эффективности главных направлений деятельности государства, принимаемых правящим субъектом решений. Формулируемые правящими элитами и политическими лидерами, проверенные историческим опытом и закрепленные правом базовые ценности обретают общезначимый, объективный характер по отношению к членам общества и к управляющим субъектам. Чем меньше разрыв между официально провозглашенными ценностями и действующими правилами «игры» управляющих, тем реальней эффективность управления.
В основе критериев эффективности — принципы государственного управления, поскольку они являются объективно обусловленными нормативными требованиями, выработанными практикой социального и государственного управления, и средствами регулирования связи между целями и результатами управленческой деятельности. Принципы выражают требования объективных законов управления; их действие связано с реализацией функций системы управления и стимулирует инициативу и самодеятельность управляемых масс. Какой бы из рассмотренных ранее принципов управления мы ни взяли, будь то принцип экономии энтропии или ограниченной рациональности, единства централизации и децентрализации власти и управления, демократизма и легитимности решений, каждый может выступать критериальным признаком оценивания эффективности.
Критерии эффективности государственного управления формируются на базе системы субъективных ценностей, выраженных в идеологии общественно-государственного строя, в стратегических целях правящего субъекта — политическом курсе, в концепциях, политических установках и нормах системы управления, за которыми стоят общие национально-государственные интересы. Зачастую за таковые выдаются интересы господствующих классов или доминирующих национально-этнических групп. Сказанное объясняет относительность оценочных критериев эффективности, зависимость их прежде всего от типа политической системы, а также конкретно-исторических условий, в которых она функционирует. Ценности, цели, концепции, принципы государственного управления, нормативная база системы управления, наконец, общественные потребности и интересы — все эти элементы критериев эффективности государственного управления представляют собою переменные, обусловленные общественно-государственным строем, политическим режимом и конкретной средой (исторической и природной), в которой живет данное политическое сообщество. В совокупности они составляют механизм реагирования поведения государства как сообщества людей на изменения внешней среды и внутреннего его состояния, систему контроля над внешними и внутренними процессами изменений. Чем шире сфера контроля, т.е. рационального влияния, тем выше эффективность управления. Но контроль, рациональное управление обществом и средой не может расширяться до бесконечности. Предел ему — естественная самоорганизация общества. Об этом мы уже писали в предшествующих главах. Способность государственного субъекта сочетать целенаправленное воздействие на социум с реализацией его свойства к самоорганизации — один из универсальных показателей эффективности управления.
Оценка эффективности государственного управления в теоретическом аспекте есть процедура сравнения результатов тех или иных решений с критериальными признаками, воплощающими официально признанные ценности, интересы, цели и нормы. Процедура оценивания — это одновременно процесс выявления противоречия между субъективным и объективным факторами управления. Такие противоречия вполне естественны: невозможно (да и нет необходимости) полностью учесть в целях и стратегиях, проектах и планах все многообразие объективных тенденций и потребностей, интересов и запросов общества, а также предусмотреть влияние постоянно меняющихся ситуаций. Решения фиксируют определенную дистанцию. Противоречия между сущим и должным, действительным и желаемым, реализованными и потенциальными возможностями государства и общества, между достигнутыми результатами и нереализованными возможностями, между использованными и невостребованными ресурсами, между показателями на входе и на выходе управляющей системы детерминируются неадекватностью целей и средств масштабу реальных возможностей и объективных потребностей, а также объему запасов ресурсов.
Соответствие результатов решений ценностям и целям системы, общественным потребностям, интересам и потенциальным возможностям их удовлетворения не наступает спонтанно. Оно достигается повышением уровня функционирования всей системы управления, адекватностью принципов, форм, методов и стиля принятия и реализации решений объективному фактору и нормативно-ценностной базе управления.
Описанная процедура оценки эффективности управления позволяет понять ее отличие от реализации контрольной функции. Включая элемент контроля (установление соответствия результата исполнения решения намеченным целям), процесс оценивания им не исчерпывается, ибо главное здесь — показатель того, насколько решение соответствовало миссии, функциям и целям данного государственного органа, а также интересам государства и общества, их возможностям и объективным потребностям; в какой мере затраченные усилия реализованы в осуществленных изменениях управляемого объекта.
В зависимости от того, что признается за основной признак эффективности, различаются три группы критериев: ценностно-рациональный, целерациональный4[4] и прагматический. Определение эффективности управления по признаку соответствия результатов решений и их последствий признанным государством ценностям, выраженным в политической стратегии, мы называем ценностно-рациональным критерием. Если в качестве показателя эффективности управления принимается соответствие результатов исполнения решения поставленным целям, практическим задачам, выраженным в государственных программах и планах, то такой критерий называется целерациональным. Измерение эффективности управления по типу — «затраты-выпуск» или «затраты-результат» характеризует прагматический критерий.
Можно рекомендовать следующие критерии и признаки эффективности государственного управления (см. схему критериев):
Критерии эффективности государственного управления
Вид критерия
Объекты оценивания (предметные ценности)
Признаки эффективности
Критерии оценки
Ценностно-рациональный
Политическая стратегия, государственные программы, планы, социально-политические и экономические концепции, принципы, методы управления
Уровень осуществления основных функций госуправления (сохранение системы, обеспечение целостности общества, прав и свобод граждан и др.); уровень рациональности решений, их легитимности, демократизм, свобода выбора
Соответствие результатов и последствий решений государственным ценностям, принципам, общественным интересам
Целерациональный
Государственные программы, планы, принципы деятельности управления, организационные структуры, формы, методы, нормы и стиль управленческой деятельности, правовое и информационное обеспечение, способы артикуляции интересов государства и граждан, защиты их, объем и виды услуг и т.д.
Полнота осуществления поставленных целей, уровень рациональности решений, легитимность, демократизм, законность, компетентность, информационное обеспечение, методы стимулирования участия граждан в управлении, степень свободы выбора, общественная цена выбора, рациональность использования всех видов капитала, инно-вационность решений
Соответствие решений функциональным целям и задачам государственного субъекта, его статусу и полномочиям, правовому порядку, общественным потребностям и интересам, достижение оптимальных результатов в рамках регулируемых государственных ресурсов; соответствие решений ожиданиям конкурирующих социальных групп
Прагматический
Непосредственные результаты изменения управляемых объектов
Общественная полезность, экономическая, социально-политическая выгода, рациональность использования ресурсов, инновационность решений, их оперативность, простота, созидательность методов управления
Получение оптимальных результатов при минимальных затратах ресурсов, оценка по модели «затраты-выгода»
Рассмотренные критерии эффективности государственного управления являются общими в том смысле, что могут применяться при оценке решений, относящихся к деятельности управляющего субъекта в любой сфере общественной жизни. Вместе с тем каждый из видов критериев приложим к анализу решений различных уровней, масштабов и значимости для государства и общества. Ценностно-рациональный критерий поможет политику и теоретику оценить эффективность глобальных, общесистемных решений органов власти и управления высшего уровня, результаты и последствия которых проявляются в глубоких изменениях всего общества или во многих его сферах. Об эффективности таких решений некорректно судить по отдельным положительным результатам, равно как и по выявленным потерям. То и другое ощущается и осмысливается правящим субъектом и управляемыми постепенно, нередко в течение длительного периода. Тем более невозможно выразить эти результаты и ожидаемые последствия в каких-либо точных числовых величинах. Только рассматривая происшедшее, совершающиеся и возможные результаты через призму системы ценностей, аналитик сможет определить позитивную или негативную эффективность данных масштабных управленческих акций государственного субъекта.
Целерациональный критерий — также общий, комплексный, но он ориентирован на оценку эффективности управления по достаточно конкретным показателям, характеризующим непосредственные результаты осуществленных целей, решенных задач, реализованных стратегий и программ, с учетом использованных государственных ресурсов. Интегральный показатель — соответствие результатов интересам государства и общества также более конкретен, чем «соответствие ценностям». Хотя понимание государственных интересов — тоже проблема. Отмеченные показатели оценивания могут фиксироваться количественными методами и качественными характеристиками. Например, показатели уровня и качества жизни, политической активности граждан-избирателей, состояния здоровья. Эффективность многих государственных решений высшего и регионального уровня не поддается количественным измерениям, однако и в таких ситуациях последние могут выполнять вспомогательную роль. К примеру, действенность реформы российской системы образования, конечно, не измеряется количеством преобразованных средних школ и техникумов в энное число гимназий, колледжей и лицеев. Главное — в оценке качества новой, вариативной, системы образовательных учреждений, в том, стало это качество выше советского уровня или же нет. Тем не менее, учитывать количественные данные при проведении итогов реформы следует.
Относительно прагматического критерия эффективности. Оценка действенности отдельных конкретных решений органов управления разных уровней вполне целесообразна. Опасен лишь примитивный прагматизм, мотивированный так называемым здравым смыслом и вездесущим дефицитом ресурсов. Подобный подход властей к системе высшего образования и к науке поставил последние перед опасностью деградации, привел к потере ранее завоеванных приоритетов. По некоторым данным печати, в настоящее время 80% российских математиков и 50% физиков работают за рубежом. Затраты государства на образование и науку, как известно, окупаются в течение длительного времени, это — база для прогресса в настоящем и будущем, вклад в потенциал государства. Вульгарный прагматизм в образовательной и научной политике противоположен коренным интересам народа.
Еще пример. СМИ (не без инициативы отдельных околовластных кругов) последовательно внедряют в общественное сознание россиян, не обладающих достаточной демократической культурой, представление о Государственной Думе Федерального Собрания РФ как о дорогостоящем для налогоплательщиков органе. Периодически информируется общественность о финансовых излишествах, якобы затрачиваемых на служебную деятельность депутатов. Некоторые политологи пытаются, оперируя математическими формулами, подсчитать эффективность законотворчества. Несомненно, высшие государственные институты (президент, Федеральное Собрание) должны жить так же экономно, как и все государство. Раскритикованный радикал-реформаторами советский принцип оплаты по «количеству и качеству труда», кстати говоря, последовательно не реализованный, применим ко всем индивидам и организациям. Количество законопроектов, разрабатываемых и принимаемых Государственной Думой, как и тех, которые блокируются Президентом РФ, — важный показатель эффективности деятельности данных институтов власти и управления и затраченных на их содержание средств.
Едва ли, однако, можно оценить в рублях (или в долларах) законы, получившие жизнь, подсчитать стоимость затраченного коллективного интеллекта и той практической пользы, которую приносят обществу добротно отработанные законы, соответствующие современным достижениям правовой теории и правоприменительной практике. Следует напомнить тем, кто на рубли оценивает законотворчество высшего законодательного органа государства, что они рискуют допустить ошибку, ибо речь идет об оценке эффективности деятельности не только интеллектуальной, но и архисложной и ответственной, результаты которой могут жить десятилетия.
Эффективность государственного управления слагается из взаимодействия многих факторов, из совокупности результатов управленческой деятельности во всех сферах государственной и общественной жизни. Поэтому анализом общих критериев эффективности не исчерпывается рассматриваемая проблема. Наряду с общими критериями эффективности в науке и практике используются специфические для каждой сферы управления: политической, социальной, экономической и др. В содержание каждого из них также включается общее требование: соответствие результатов управленческой деятельности определенным государственным ценностям, целям и нормам, принципам управления и общественным интересам. Специфика же определяется существенными признаками эффективности, проявляющимися только в данном виде управления. Например, для политического управления — это уровень развития политической активности масс и защита прав и свобод человека; для социального — обеспечение повышения качества жизни и т.д. Общий критерий конкретизируется и дополняется особенным, применяемым для определения эффективности управления отдельными сферами общественной жизни. Так, известное в теории определение эффективности управленческой деятельности как отношения «чистых положительных результатов (превышение желательных последствий над нежелательными) и допустимых затрат» может успешно «работать» при оценке решений по конкретным социально-экономическим вопросам, относящимся к отдельным организациям. Такие решения «можно назвать эффективными, если наилучший результат достигнут при заданных временных издержках выбора» [3]. Оценка же результатов решений по преобразованию экономических отношений в масштабах страны на основе только названного критерия проблематична. Главная трудность — определить параметры «временных» и «самых низких издержек». Не обойти и вопроса о содержании понятия «издержки».
Глобальные экономические решения (да и не только) так или иначе затрагивают социальную сферу и политику, где не представляется возможным посчитать «чистые положительные результаты», равно как и «допустимые» или «заданные временные», «самые низкие издержки». Кроме того, следует учитывать, что эффективность социально-политических решений прямо во многих ситуациях не связана ни с самыми низкими издержками, ни с высокими, а тем более — с заданными. Издержки таких решений преимущественно не запрограммированы, что не означает бесконтрольности.
Практика российских реформ показывает, что подмена общего (комплексного) критерия оценки их эффективности критериями «чисто» экономическими или политическими, а еще хуже, идеологическими не позволяет объективно судить о реальных проблемах, возникающих и существующих в стране, и является источником прямо противоположных выводов о перспективах развития. Более убедительного подтверждения данного тезиса, чем взаимоисключающие оценки осуществленной в стране приватизации, нет. Вот только два суждения. Официальное — из мартовского (1999 г.) Послания президента РФ Б.Н. Ельцина: «Приватизация увела Россию от неэффективной государственной экономики, но конкурентная частная пока не появилась» [4]. Мнение ученого-экономиста СЮ. Глазьева и председателя правления Российского торгово-финансового союза С. Батчикова противоположное. Практическим результатом политики приватизации государственной собственности, по их мнению, «стал беспрецедентный в современной экономической истории парадокс: в течение шести лет самый богатый собственник... не только лишился более половины своего имущества... но и умудрился стать наиболее крупным в мире должником». «Потери на приватизации достигли огромных размеров. Произошло обвальное обесценение сбережений граждан в государственном Сбербанке. Втрое увеличились долги страны» [5].
Приведенные взаимоисключающиеся оценки результатов приватизации основываются на едином критерии — экономической эффективности. Согласно первому (президентскому) суждению, эффективность приватизации положительная, а по мнению оппонентов, — отрицательная. За противоположными оценками кроются соответствующие подходы. Для президента важен непосредственный, по его мнению, положительный результат: разрушение экономики, основанной на общественной собственности как неэффективной. Колоссальные потери — экономические и социальные — не учитываются. Они оправдываются ожиданиями будущего подъема страны. Оппоненты, напротив, свою негативную оценку приватизации связывают с ее разрушительными последствиями для экономики и огромными материальными потерями, понесенными населением. Возможные потенциальные прогрессивные тенденции, обусловленные приватизацией, не рассматриваются. Односторонность официальной оценки проведенной приватизации исключительно с учетом критерия экономической эффективности в перспективе очевидна. Однако нельзя не отметить и некоторую крайность другой позиции. Эффективность государственных решений судьбоносного значения (осуществление приватизации именно таково) может проявляться, как уже отмечалось, не только в настоящем, но и в будущем. Это следует учитывать в научном анализе. Так же, как и то, что современники подобных решений живут в настоящем и ожидают от государства действий, которые улучшают их благосостояние уже сегодня.
Показательно, что большинство молодежи с самого начала не приняло передел собственности. По данным опросов, проводимых Институтом молодежи, 60% респондентов (к числу опрошенных) высказались против того, чтобы в нашей стране частным лицам принадлежали крупные заводы, фабрики и земельные участки. Но они согласны с тем, чтобы частные лица владели небольшими объектами собственности. С существованием частной собственности на крупные промышленные и сельскохозяйственные объекты согласны (соответственно) 30% и 36,4% респондентов [6].
Пример неоднозначной оценки эффективности приватизации государственной собственности подтверждает необходимость применения в управлении комплексных показателей эффективности (экономических, социальных и т.д.), а также показателей, характеризующих эффективность результатов решений, проявляющихся в настоящем, и последствий, ожидаемых в обозримом периоде. Проводимые в России реформы могут быть оценены объективно только с учетом обобщенных критериев. Утверждается общественная система, противоположная бывшей советской; все законодательные акты, начиная с Конституции РФ, все государственные решения, принятые после августа 1991 г., — это акты, направленные на разрушение прежней и на создание принципиально иной социальной системы. Идут ее роды, сопровождающиеся всеобъемлющим кризисом. Оценивать эффективность (позитивную или негативную) отдельных процессов деятельности правящей власти вне связи с другими, пытаться, скажем, экономическую стратегию рассматривать обособленно от социальной, а последнюю — вне зависимости от государственного строительства, значит, заведомо обрекать себя на ошибки. В переходный период влияние изменений, происходящих в одних сферах общества, на процессы в других сферах особенно велико. Прежде всего, это проявляется во взаимозависимости преобразований в политике, экономике и социальной сферах. Тем и объясняется необходимость в комплексных критериях оценки эффективности управления: политико-экономических, социально-экономических и социально-политических. В практической же деятельности органы власти и управления тяготеют к критериям, ограниченным отдельными областями общественной жизни или даже видами решений.
Значение общих комплексных критериев эффективности управления не умаляет роли критериев специфических. В литературе последнего времени активно обсуждаются вопросы эффективности государственной службы, законодательной деятельности, проблемы эффективности технологий государственного управления. В частности, всесторонне анализируются понятие эффективности государственной службы, его критерии и модели в работах ученых Российской академии государственной службы при Президенте РФ, Северо-Кавказской и других региональных академий государственной службы. Акцентируется подход в аспекте общего критерия эффективности государственного управления. «Работу госаппарата можно признать действительно эффективной лишь в том случае, если он успешно решает проблему оптимальной защиты интересов государства и оптимальной защиты интересов населения, социальных групп и каждого человека. В этой двуединой задаче — важнейшая сторона понятия эффективности государственного аппарата»[7]. Согласно такому подходу, эффективность госслужбы выражается в расширении возможностей активной гражданской жизни членов общества, их участия в управлении общественными делами и в самоуправлении. Она обеспечивается отлаженной системой государственных органов, способностью артикулировать и защищать в законном порядке общественные интересы, реализовывать государственную социально-экономическую политику [8].
Учитывая особую значимость ресурсного обеспечения государственной службы, обращается внимание на весьма распространенную модель оценки эффективности: «ресурсное обеспечение управленческой деятельности — затраты-результат». Эта модель позволяет сравнивать эффективность российских управленческих структур с западными. Объективность оценки предполагает необходимость введения при их сопоставлении поправочного коэффициента, учитывающего экологические условия и другие виды ресурсного обеспечения управления [9]. Измерение эффективности управленческой деятельности государственной службы по соотношению затраченных ресурсов и результатов целесообразно дополнять определением соотношения вовлеченных ресурсов и объема ресурсов, которые оказались невостребованными, хотя и нужными для решения поставленной задачи. Так, к примеру, в настоящее время в стране значительная часть предприятий не действует и миллионы гектаров пахотных земель не используются для производства сельскохозяйственной продукции. Между тем импортируются промышленные и продовольственные товары (пусть даже лучшие и дешевые). Это означает одно: государственное управление экономикой неэффективно. Такая ситуация не способствует ни рациональному использованию материально-технических, трудовых и интеллектуальных ресурсов страны, ни обеспечению экономической независимости государства. Не говоря уже о поддержании в обществе благоприятного социально-политического климата.
Ученые отмечают еще одну особенность оценки эффективности деятельности государственной службы, проявившуюся в международной практике. Она смещается в сторону факторов социокультурного и духовного характера, что отражает изменение в иерархии ценностей управленческой деятельности. Положительные ценностные показатели технико-технологического и экономического характера отодвигаются показателями социокультурными.
Представляется важным отметить выработанную учеными Северо-Кавказской академии государственной службы методику определения критериев эффективности государственной службы, включающую, в частности, анкету эксперта. Перечисленные в ней позиции характеризуют различные черты поведения и деятельности администрации. К примеру: организованность и сплоченность администрации; уровень профессиональной подготовки административной элиты; уровень взаимодействия с общественными организациями управления в целом; уровень взаимодействия с нижестоящими структурами управления и исполнителями в целом; умение решать возникающие конфликты и т.д. [10].
Профессор Российской академии госслужбы Г.В. Атаманчук исследовал и описал критерии социальной эффективности управления. В числе критериев отмечается общий (в интерпретации автора) — глубина «учета и выражения в управленческих решениях и действиях коренных и комплексных потребностей, интересов и целей людей». Вместе с тем называются и другие критерии проявления управленческой деятельности в социальной сфере: степень «соответствия направлений, содержания и результатов деятельности управленческих структур и работников тем ее параметрам, которые определены функциями и статусом управленческого работника...»; законность решений и действий управляющих структур и работников...» и т.д. [11].
Таким образом, как следует из приведенных примеров разработок, специфические критерии эффективности государственной службы и управления социальными процессами формулируются в диапазоне проявления общих критериев государственного управления. И такой подход, безусловно, в методологическом отношении вполне корректен. Государственное управление, как подчеркивалось нами уже не раз, ориентировано на целенаправленное изменение управляемого общественного объекта в интересах последнего и государства. Эффективность управленческой деятельности в любой области в конечном итоге измеряется тем, в какой степени достигается цель.
В пределах общего критерия, выступающего в качестве ориентира для определения эффективности многочисленных отдельных решений по частным вопросам, применяются прагматические критерии, разработанные в теории социального управления. Известная формула эффективности любой деятельности: Э — Р/Ц , где Э — эффективность, Р — результат, Ц — цель, — модифицируется в конкретные модели критериев. Следует подчеркнуть одно требование методологического характера: эффективность каждого конкретного решения должна определяться в соответствии с критерием, обусловленным содержанием решения и его результатов. Нужен конкретный подход к подбору критериев и с учетом конкретной ситуации принятия и исполнения решения. Так, если речь идет о решении, связанном с добыванием субъектом каких-то ресурсов или их распределением, то применение критерия «ресурсное обеспечение — затраты — результаты» — в данном случае нуждается в существенной корректировке. Результатом исполнения данного решения является приобретение требующихся ресурсов. Затратами же — использование определенного вида капитала: политического, социального, информационного и пр. Скорее всего эффективность такого типа управленческого действия следует определять по модели «цель — результат — интересы» или по критерию «затраты-выгоды», на основе которого принимаются решения о распределении ресурсов [12].
Оценка эффективности тех или иных государственных программ (экономического, социального или культурного развития) возможна с привлечением таких показателей: объема выполненных работ и проведенных мероприятий, соотносимого с расходами; реализации официально установленных стандартов потребления товаров и услуг; уровня удовлетворения потребностей и запросов населения в определенных услугах и предметах жизненной необходимости, что фиксируется, в частности, опросами населения и анализом жалоб и предложений граждан; динамики роста бюджетных ассигнований и пр.
Эффективные конкретные решения государственных организаций — это, значит, оптимальные. Такие, которые обеспечивают реализацию общезначимых целей, но не связаны с большими затратами; те, которые приносят значительный успех одной стороне, однако не требуют больших потерь для другой стороны. Оптимальное решение — это решение, приносящее существенные положительные результаты для всех сторон («супероптимальное решение»); решение, обеспечивающее достижение сочетания конфликтующих действий, групп интересов, практическое устранение конкретных источников конфликтов или урегулированность последних [13].
В заключение обратим внимание на стремление зарубежных теоретиков и практиков управления постоянно подчеркивать «критически важную составляющую» в «успешном изменении» организации управления — обеспечении более высокой степени участия людей в этом процессе на всех уровнях.
Литература
1. Хольцер М. Производительность, государственное управление и демократия // Эффективность государственного управления. С. 17,
2. Свайн Д., Уайт Д. Оценка перспектив использования информационных технологий в целях повышения производительности // Эффективность государственного управления. С. 795.
3. Цит. по: Игнатов В. Повышение эффективности государственной власти и управления — жизненно важная проблема сохранения российской государственности // Проблемы повышения эффективности государственной власти и управления в современной России. Вып. 1. - Ростов н/Д, 1998. С. 5.
4. Ельцин Б.Н. Выйти из кризиса, сохранив всю полноту политических и экономических свобод // Парламентская газета. 1999. 28 марта.
5. Глазьев С, Батчиков С. За ликвидацию безграмотности в органах государственной власти // Эффективность государственного управления. С. 8.
6. Советская Россия. 1999. 3 июня.
7. Кадровое обеспечение государственной службы. - Ростов н/Д, 1994. С. 84.
8. Игнатов В., Понеделков А. Эффективность государственной службы // Государственная служба: теория и организация: Курс лекций /Под ред. проф. Е.В. Охотского и проф. В.Г. Игнатова. - Ростов н/Д, 1998. С. 384; Игнатов В., Понеделков А., Старостин А. Эффективность государственной службы // Государственная служба: Учебник / Под ред. проф. В.Г. Игнатова. — М., 2004. С. 251-277.
9. Там же.
10.Там же.
11.Атаманчук Г. Критерии социальной эффективности управления // Проблемы повышения эффективности государственного и муниципального управления в современной России. - Ростов н/Д, 1998; Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. Курс лекций. Изд. 2-е, дополн. — М., 2004. С. 480-502.
12.Хольцер М. Производительность, государственное управление и демократия. С. 36.
13.Там же.
Глава 11. Факторы эффективности государственного управления
Проблема факторов эффективности государственного управления многоплановая. Подходы к ее изучению могут быть различными. Соответственно и решения — разновариантными. Рассмотрение проблемы в аспекте анализа общесистемных факторов эффективности предполагает подход, учитывающий роль общегосударственных идейно-политических и стратегических факторов. На уровне подсистем — экономической, социальной, политической, правовой — и субъектов Федерации общегосударственные факторы будут рассматриваться в качестве отправных посылок и рамочных условий в анализе эффективности управления. Непосредственным предметом анализа окажутся факторы, связанные со спецификой целей, стратегий и структурных форм организации власти и управления соответствующих подсистем и уровней. При анализе эффективности управления организациями (корпоративный уровень) акцент исследования сместится в плоскость объяснения влияния на эффективность конкретных способов, методов и средств управленческой деятельности. Роль общесистемных и региональных факторов будет выявляться опосредованно — через анализ условий и механизмов управления корпоративного масштаба.
Попытаемся сформулировать общесистемные факторы эффективности государственного управления. По нашему мнению, ее определяют четыре группы факторов:
—базовые ценности, стратегические цели государства, легитимные концепции и модели развития общественной системы; политический курс;
—организация системы государственной власти и управления и ее функционирование как единого организма; единые политическое и правовое пространства;
— состояние государственного аппарата, его приоритетные формы, методы и стиль управляющей деятельности; профессионализм; уровень доверия населения к властям и участия в управлении государством;
— экономическая, политическая, социальная стабильность (или нестабильность) общества.
Рассмотрим названные факторы. Выше отмечалось, что каждой политической системе присуща своя система ценностей. Ценности — это обобщенные цели государства: они составляют духовную основу общегосударственных интересов и политической стратегии, воплощаются в идеологии и концепциях системы государственного управления. Это — целевые ценности. В систему базовых входят и инструментальные ценности, выражающие одобряемые обществом средства достижения целей [1]. Определенность базовых ценностей и признание их обществом (или его большинством) в качестве основополагающих регулятивов поведения и деятельности — необходимое условие эффективного функционирования институтов власти и управления, включая нормативно-правовые механизмы. Советскому государству и обществу были свойственны идейно-политические и нравственные ценности, отражающие до определенного периода интересы большинства населения и принимаемые им. Они обеспечивали относительную эффективность общественно-политического строя в условиях борьбы общества за свое выживание в самые критические моменты истории (индустриализация страны, Великая Отечественная война, период восстановления бывших под оккупацией районов и городов). По мере дискредитации советских социалистических ценностей, декларируемых правящей партией, стала разрушаться духовная основа советского режима. Это предопределило его крушение.
Отбросив советские ценности, новый политический режим провозгласил приверженность к либерально-демократическим ценностям западноевропейского образца. Однако в современной России пока не сложилась новая система общезначимых и общепризнанных ценностей, что подтверждается наличием раскола общества как по политическим, так и идеологическим и моральным ориентациям. Некоторые социологи на основе проводимых исследований фиксируют существующий в настоящее время в нашей стране «ценностный вакуум», чем, в частности, объясняют криминализацию общества [2]. «Ценностный вакуум», конечно, не абсолютен. В Конституции РФ, как мы подчеркивали, узаконены базовые государственные ценности, выражающие фундаментальные нормы общества (демократические права и свободы и др.).
Но они не стали пока общепризнанными, не превратились в реальные регулятивы массового общественного поведения людей. Такая противоречивая ситуация и дает основание говорить о «ценностном вакууме».
Р.В. Рывкина пишет, что в СССР «ценностный вакуум» не ощущался — при всей спорности социалистических ценностей. В современной России он порожден двумя группами причин. Первая группа: конкретные условия нынешней жизни, в первую очередь экономические трудности, вызвавшие неудовлетворенность жизнью, пессимизм, утрату перспектив. Вторая группа: долгосрочные факторы — результат «двух исторических сломов социального сознания, которые Россия пережила на протяжении XX в., в периоды двух переходных эпох»: при переходе от дореволюционного капитализма к советскому социализму и — от советского социализма к «постсоветскому антисоциализму», от советской России — к «нынешней олигархической криминальной» [3]. Сущность «ценностного вакуума», по автору, проявляется в отсутствии четких приоритетных предпочтений, которые стимулировали бы ту или иную деятельность людей. Применительно к обществу «ценностный вакуум» означает ситуацию, когда людям безразлично, при каком строе жить, за какие политические партии голосовать, какую власть иметь. Они утеряли чувствительность к идеологическим и политическим различиям деятелей любых уровней, не доверяют никому из них. У чиновников отсутствие ясных и четких ценностных приоритетов проявляется в конъюнктурном характере управления общественными делами. Говорить о применении ценностно-рационального или целерационального критерия эффективности управления в таких условиях трудно.
С разрушением административно-командной экономики и «коммунистической» коллективистской идеологии утратили силу прежние нормы морали и идеологического воздействия, регулировавшие поведение членов общества, в том числе работников органов государственной власти и управления, и ставившие известные барьеры на пути злоупотреблений, коррупции и произвола. В жизнь общества в целом и института государственной и муниципальной службы все полнее и активнее приходит индивидуалистическая идеология, характерная для худших образцов капиталистической рыночной экономики, «дикого» капитализма. В советские годы значительная часть населения разделяла насаждаемые властями и воспеваемые в любимых многими песнях идеи: «Прежде думай о Родине, а потом о себе», «Жила бы страна родная, и нету других забот», «Сегодня не личное главное, а сводки рабочего дня», «Все остается людям». Конечно, советские лидеры нередко паразитировали на этих идеях, на трудовом и патриотическом энтузиазме людей для мобилизации их на «стройки коммунизма», не создавая для тружеников элементарных бытовых условий (как, например, при освоении целинных земель в Казахстане, строительстве Байкало-Амурской магистрали, многих гидроэлектростанций и других важных народнохозяйственных объектов). Но важность для общества, для народа, для всей страны идей патриотизма и необходимости заботиться не только о себе, о своей семье, о близких, но и о родной земле, стране от того не умаляется.
Сейчас же и многими руководящими деятелями, и средствами массовой информации активно насаждается идеология обогащения любой ценой, пусть даже во вред обществу, своему народу, стране, окружающей среде, природе. «Бери от жизни все!» — этим рекламным роликом компании «Пепси-Кола» лучше всего, пожалуй, выражается идеология, которую так хотели бы привить населению России отечественные нувориши, воспитывая из молодежи «поколение Пепси».
Такая идеологическая обработка российского населения не проходит для него бесследно. Именно она в немалой степени является одним из важнейших факторов, ведущих к росту в стране коррумпированности чиновников, теневой экономики, незаконного обогащения далеко не узкого круга лиц, в том числе путем мошенничества, «крышевания», к росту организованной преступности и другим негативным явлениям.
Описываемая ситуация во многом стимулируется также неясностью целей реформирования общества, или, точнее говоря, неопределенностью их формулирования. Понятие «курс реформ», вошедшее в официальные правительственные документы, раскрывается в основном как переход к рыночной экономике и построение демократической государственной системы. Концепция и модель рыночной экономики и роль государства в ней интерпретируются, по крайней мере, неоднозначно, в зависимости от предпочтений приходящего очередного правительства. Нет ни легитимно принятой программы построения рыночной экономики, ни четко и последовательно проводимого курса на формирование правового государства. Это, конечно, сказывается отрицательно на всей системе государственного управления. Неоднократные заявления Президента Б.Н. Ельцина и сменяющихся глав Правительства о необходимости создания «нового экономического порядка», при котором бы взаимодействовали механизм рынка и государственное регулирование, так и не реализованы. Намерение повышать роль государства в экономике; переходить от политики невмешательства к политике «упреждающего регулирования экономических процессов, контроля за жизненно важными отраслями», к разработке и осуществлению продуманной экономической стратегии, высказанное Президентом РФ в сентябре 1997 г. на заседании осенней сессии Совета Федерации, повторно сформулировано, только в другой редакции, в его мартовском (1999 г.) послании Федеральному Собранию РФ. «Главное — определить экономическую и бюджетную стратегию государства», — подчеркнуто в Послании [4]. Отметим, однако, что в сложившейся ситуации, после проведения скандальной приватизации за бесценок многих важнейших предприятий и целых стратегических отраслей, возможности государственного регулирования экономики существенно ограничены. Реальному возвращению государства в экономику будет способствовать проводимая ныне действующим Президентом РФ В.В. Путиным ориентация на создание в стране сильной и ответственной, дееспособной и финансово обеспеченной власти, основанной на консолидации общества, на проведение глубокого анализа и уточнение существующих подходов к экономической политике, масштабное строительство современной и сильной экономики, политику быстрого и устойчивого экономического роста и обеспечения повышения конкурентоспособности российской экономики. Исключительно серьезное значение в этом отношении имеют также курс на перераспределение экономических ресурсов монопольного сектора, который душит конкурентный сектор нашей экономики, в пользу последнего и в целях обеспечения социальных обязательств государства, которые ныне составляют 6,5 триллиона рублей, что практически вдвое превышает размеры консолидированного бюджета России. Весьма важно и то, что возникла и усиливается ориентация на расширение горизонтов государственного и корпоративного планирования и прогнозирования, повышение их роли в развитии экономики и общества. Государство и органы местного самоуправления, предприниматели строят свои планы уже в расчете не на месяцы, а на годы.
На повышение эффективности государственного управления, деятельности государственного аппарата по достижению базовых ценностей государства и адекватному приспособлению его функций к решению стратегических задач и направлена административная реформа, о которой выше уже шла речь.
Стоит задача еще более однозначно и четко сформулировать стратегическую идею (куда идем), концепцию политического курса и соответственно роли государства в реформировании экономики и других сфер общества. Не отказавшись от догматического следования макроэкономическим западным теориям, не признав фактический провал прежней обвально-разрушительной модели реформирования, невозможно восстановить созидательную роль государства и решать проблему эффективности государственного управления обществом.
Сторонникам радикально-либеральных взглядов, в частности последователям монетаристской концепции, полагаем, полезно прислушаться к высказываниям известного американского историка и экономиста, в прошлом советолога С. Коуэна. Выступая по телевидению в программе «Парламентская неделя» в июле 1998 г., он критически характеризовал рекомендации гарвардской школы (США) российским реформаторам. Эти рекомендации, по мнению автора, строились на догматической монетаристской идее, без учета специфики России. Американские консультанты не знают и не хотят знать эту специфику. Ими руководит одно: догма монетаризма, вытекающая из объективного закона рынка. Общее же вне специфического не может быть руководством в понимании конкретной ситуации в России. В России всегда была смешанная экономика, а стало быть и существовал рынок. Лучшей его формой был НЭП (Новая экономическая политика — с весны 1921 г. до конца 20-х годов), но нынешний российский рынок несравним с нэповским.
Другим главным фактором эффективности государственного управления является организация системы власти и управления, ее функционирование как единого организма. Этот фактор играет определяющую роль в любом современном развитом государстве. Независимо от национальных форм государственного устройства и политических режимов эффективность управления обеспечивается, во-первых, реальной целостностью систем государственного управления, единством правил «игры» всех задействованных в них управляющих субъектов; во-вторых, правовой стабильностью и достаточно высокой правовой культурой; наконец, в-третьих, высокой дееспособностью государственной власти на всех уровнях, а также местного самоуправления. Естественно, что в нашем государстве, где до основания разрушены все прошлые системообразующие организационные связи и формы управления, но не завершен процесс становления новой системы, потенциал анализируемого фактора эффективности остается нереализованным. Более того, он проявляется в основном в негативном плане, стимулируя кризис власти и управления. Ученые-эксперты, политики, администраторы едины во мнении о необходимости доведения ныне существующей структуры российской государственной власти до превращения ее в единую систему, в которой бы эффективно взаимодействовали и функционировали органы всех уровней и ветвей власти. На поверхности, как говорится, лежит истина: принцип разделения властей пока не обеспечивает единство государственной власти, а стало быть, и управления. Законодательные и исполнительные органы власти действуют не только разрозненно, но находятся, если говорить о федеральном уровне, в состоянии перманентно возникающего конфликта. Механизм сдержек и противовесов функционирует лишь в плане «противовесов». Сдержки исполнительной власти на всех уровнях не предусмотрены. Ее авторитарность теперь уже очевидна. Не отлажена до конца общая система государственной власти и управления. Она «прерывается» на уровне субъектов Федерации, обладающих, кстати сказать, неодинаковым объемом властных полномочий. Местное же самоуправление — это своеобразный «коктейль» из всех ветвей власти.
Каков же путь достраивания единой системы? В правящих кругах единой позиции по этому вопросу нет. Одни считают целесообразным решать проблему путем внесения изменений в Конституцию и ограничения самостоятельности органов местного самоуправления и субъектов Федерации. Другие, напротив, высказываются за дальнейшее расширение объема властных полномочий субъектов и незыблемость местного самоуправления без каких-либо корректив Основного Закона страны. Думается, что потребность повышения эффективности всех органов управления в конце концов приведет оппонентов к принятию оптимального варианта. Ясно одно, что до тех пор, пока не будет создана и не станет функционировать целостная система государственной власти и управления, разумеется, на демократической основе, эффективность останется переменной, всецело зависящей от субъективных качеств управляющих.
Состояние государственного аппарата, качество его деятельности, уровень доверия населения к властям — не менее важный комплекс факторов, непосредственно влияющих на решение проблемы эффективности государственного управления. Понятие «государственный аппарат» в настоящем контексте используется в узком смысле в отличие от широкого, идентичного категории механизма государства. Государственный аппарат — это аппарат государственного управления; совокупность исполнительно-распорядительных управленческих органов [5]. Он часть механизма государства, обеспечивающая вместе с другими государственными органами реализацию его функций управления. Государственный аппарат — рациональная организация, состоящая из государственных служащих, наделенная властными полномочиями и необходимыми средствами (включая материальные) для осуществления в пределах своей компетенции определенных функций и задач. Ему, по определению, присущи признаки рациональной бюрократии (по Веберу), охарактеризованные нами при анализе стилей управления.
Эффективность государственного управления напрямую связана с наличием современной бюрократии (слоя управляющих), обладающей высоким профессионализмом, стратегическим инновационным мышлением, признающей в качестве приоритетного демократический стиль управляющей деятельности и руководствующейся государственным интересом.
Как положительный факт, отметим, что, по данным исследований, проведенных Информационно-социологическим центром РАГС, в настоящее время «фундаментом нормативно-ценностных ориентации» руководящих работников исполнительных органов власти РФ является «необходимость защиты государственных интересов и интересов населения. На это соответственно указали 76 и 59% работников».
Современная рациональная бюрократия как фактор эффективности государственного управления должна находиться под контролем первичных органов государственной власти (конституционно установленных) и общественных институтов. Иначе она «оседлает» государство, станет орудием своих корпоративных интересов и превратится в антифактор эффективности.
Одно из противоречий, с которым государство сталкивается при формировании своего аппарата и обеспечении демократического характера его деятельности (а значит, и эффективности), — противоречие между открытостью аппарата, возможностью доступа в его состав каждого профессионально подготовленного к государственной службе человека и тенденцией к корпоративной замкнутости как условием реализации узаконенного статусного превосходства по отношению к другим группам населения.
Правы авторы названных исследований, считая, что одним из критериев оценки соответствия является отношение государственного служащего к демократическому контролю деятельности аппаратов органов исполнительной власти со стороны общества. Такого рода контроль «пока в зачаточном состоянии». Полученные данные, фиксирующие положительное или негативное отношение государственных служащих к роли, которую должен играть демократический контроль, позволили отнести опрошенных к двум условным типам: «типу демократической ориентации» и «типу административной ориентации». В первом типе оказалась группа, составляющая 14% от общего количества опрошенных; остальные (86% опрошенных) — госслужащие административной ориента-. ции. Это работники, считающие факторами улучшения их работы традиционные внутриаппаратные административные механизмы: координации, отчетности, планирования и др. [6].
Исследования подтвердили широко известный общественности факт: большинство опрошенных (80%) выразили полное удовлетворение той политической атмосферой, которая царит в органах исполнительной власти. Между тем среди них 3/4 служили прежней власти [7]. Авторы в общем-то не видят в этом факте каких-либо отрицательных теней. Вывод их таков: «...принадлежность к когорте государственных служащих как ведущий мотив поведения обусловливает, во-первых, отсутствие для основной массы чиновничества дилеммы — « какой власти служить», во-вторых, обеспечивает стабильность кадрового состава аппаратов органов исполнительной власти» [8]. На наш взгляд, состоявшееся формирование состава органов новой исполнительной власти можно оценивать двояко. Положительно: с точки зрения стабильности страты государственных служащих в переходный период. К счастью, этот социальный слой не подвергся разрушительной чистке и преследованиям по политико-идеологическому принципу. Тем самым подтверждена отдаленность ее большей части от борьбы за власть. Сложившийся ныне состав аппаратов исполнительной власти и управления свидетельствует также о преемственности в деятельности государственных органов при переходе к новой политической системе, что вполне закономерно. В опыте советского аппарата, в работе его кадров содержались многие элементы, свойственные любой современной системе государственного управления. Например, некоторые методы администрирования, организационные формы, методы нематериального стимулирования социальной активности и др. Возвращение государства в экономику, в социальную сферу побудит управляющие органы реалистично и разумно переосмысливать советский опыт государственного управления и использовать то, что не потеряло ценность на современном этапе. Кадры служащих, работавших в советском аппарате, помогут это сделать.
Отрицательная сторона ведущего мотива поведения чиновничества — отсутствие дилеммы «какой власти служить» — нравственная. Она есть отражение ситуации «ценностного вакуума», о чем шла речь выше. Большинству рядовых честных граждан не импонирует чиновник, какой бы высокий пост он ни занимал, для которого мотивом поведения является противоположное принципу известного грибоедовского литературного героя: «служить бы рад, прислуживаться тошно».
Заставляют серьезно задуматься о необходимости проведения большой работы по совершенствованию подбора и расстановки кадров результаты экспертной оценки представителями административных элит Юга России основных внутренних установок деятельности государственных служащих и основных факторов их выдвижения и продвижения по службе, полученные по результатам опросов, проведенных СКАГС. Хорошо, конечно, что многие государственные служащие заботятся о том, чтобы реализовать свой творческий потенциал, достигнуть признания и уважения людей, обеспечить благополучие своей семьи. Но все это забота о себе, любимом. Плохо то, что среди внутренних установок своей деятельности на последнем месте стоит у многих стремление честно служить обществу — эту установку как одну из других приоритетных отмечают всего 22% опрошенных.
Как позитивное явление можно отметить то, что достойное место среди основных фактов выдвижения и продвижения по службе, по мнению экспертов, занимает профессионализм госслужащих (его отметили чуть более 44% опрошенных). Однако настораживает, что гораздо более важным фактором являются «неформальные отношения с нужными людьми» (53% опрошенных), а 3—4 место по важности разделяют наличие богатства, денег (40%) и лояльность политическому режиму (этот фактор отметили 36% опрошенных). При этом намного меньшее значение при выдвижении и продвижении по службе имеет, оказывается, престижное образование (его отметили 26% опрошенных) [9].
Никак нельзя отнести к положительным качествам нынешнего состава аппаратов исполнительной власти выявленный исследованием РАГС факт обесценивания моральных норм и запретов в сознании немалой части государственных служащих.
Достаточно сказать, что, по мнению опрошенных РАГС и подведомственными ей региональными академиями государственных служащих, рейтинг многих норм и правил их служебного поведения за 1997—2002 гг. резко упал. Так, по их мнению, значимость таких характеристик работников аппарата органов государственной власти в продвижении их по службе, как дисциплинированность, упала почти вдвое — с 56,8 до 33,8%, способность брать ответственность на себя — почти вдвое, доброжелательность — с 61,5 до 27,6%, примерно втрое упала весомость таких качеств, как честность, принципиальность, справедливость, склонность к взаимопомощи. Особенно резко упала значимость для продвижения по госслужбе открытости (с 32,4 до 5,0%), служебного педантизма (с 18,9 до 4,4%), склонности к взаимопомощи (с 29,7 до 8,5%) [10].
Несомненно, подобное падение нравственности чиновничества служит одной из существенных причин огромной опасности для государства — коррумпированности органов власти и управления.
Это явление приобрело столь значительное распространение, что. о нем вынуждены прямо говорить Президенты РФ. «Преступность сегодня нагло вползает в политику и диктует там свои законы. Сомнительные личности рвутся к власти. Им в этом помогают нечистые на руки чиновники», — говорится в Послании Б.Н. Ельцина Федеральному Собранию России 1997 г. Президент РФ В.В. Путин в 2002 г. вновь привлекает внимание собравшихся к этой проблеме: «нынешняя организация работы госаппарата, к сожалению, способствует коррупции. Коррупция - это не результат отсутствия репрессий — хотел бы это подчеркнуть, — а прямое следствие ограничения экономических свобод. Любые административные барьеры преодолеваются взятками. Чем выше барьер - тем больше взяток и чиновников, их берущих» [11]. Борьба с коррупцией превратилась в важнейшую общегосударственную задачу.
Рейтинг некоторых норм и правил служебного поведения
(Распределение ответов госслужащих на вопрос:
«Какие именно характеристики работников аппаратов
органов государственной власти способствуют
их продвижению по службе?»)[10]
(в % от количества опрошенных)
Нормы и правила служебного поведения
1997 г.
2002 г.
Добросовестное отношение к работе
Нет данных
68,8
Дисциплинированность
56,8
33,8
Способность брать ответственность на себя
52,6
30,6
Инициативность
13,5
28,5
Доброжелательность
61,5
27,6
Честность
67,6
22,6
Способность к компромиссу
27,0
20,6
Принципиальность
54,0
17,6
Признание прав и свобод граждан
18,9
16,2
Справедливость
37,8
12,6
Склонность к взаимопомощи
29,7
8,5
Терпимость к чужим жизненным идеалам
16,2
6,5
Открытость
32,4
5,0
Служебный педантизм
18,9
4,4
(По данным опроса, проведенного РАГС)
Государственная коррупция (от лат. — подкуп) — это использование должностным лицом государственным служащим (или группой чиновников) своего служебного положения для незаконного приобретения материальных и других благ. В докладе, подготовленном Советом по внешней и оборонной политике и региональным общественным фондом «Информатика для демократии» (февраль 1996 г.), предпринята попытка всесторонне проанализировать государственную коррупцию как явление. Материалы исследования помогают понять многие существенные стороны, последствия и причины существования и распространения государственной коррупции в современной России; заставляют поразмышлять о путях борьбы с ней, ставшей «проблемой национальной безопасности». С точки зрения исследователей, государственная коррупция — явление социально-экономическое и историческое. Нынешнее состояние коррупции в России во многом обусловлено «давно наметившимися тенденциями и переходным этапом» [12].
В числе наиболее значимых причин коррупции отмечаются: стремительный переход к новой экономической системе, не подкрепленный необходимой правовой базой и правовой культурой; «отсутствие в советские времена нормальной правовой системы и соответствующих культурных традиций»; «распад партийной системы контроля», «слияние власти и экономики» (в прошлом); «неукорененность демократических политических традиций»; наследуемый от «тоталитарного режима» громоздкий и неповоротливый государственный аппарат. Акцентируя внимание на причинах исторического характера, авторы называют также некоторые современные российские факторы коррупции. Например, экономический упадок и политическая нестабильность; несовершенство законодательства, включая противоречивость отдельных законов; слабость гражданского общества, слабость судебной системы и неразвитость правового сознания и др.
В докладах анализируются некоторые экономические негативные последствия государственной коррупции, в том числе расширение теневой экономики и нарушение конкурентных механизмов. Характеризуются также последствия политические. В частности, подчеркиваются такие явления, как «смещение целей политики от общенационального развития к обеспечению властвования олигархических группировок»; уменьшение доверия к власти, рост ее отчужденности от общества; возникновение угрозы разложения демократических институтов и нарастание разочарования граждан в ценностях демократии.
Устранение отмеченных и других причин государственной коррупции связано с решением общих политических, экономических и социальных проблем модернизации нашей страны. Поэтому, как правильно подчеркивают авторы исследования, борьба с коррупцией не может быть разовой кампанией. Ее (коррупцию) нельзя ограничить только законодательными мерами и искоренением отдельных проявлений. Нужна «антикоррупционная политика», которая должна реализовываться на высшем уровне политического руководства. Только постоянная, всеохватывающая, комплексная борьба с коррупцией, причем на всех уровнях власти и управления, может дать желаемый эффект. Абсолютная победа над нею невозможна. Пока существуют государство и институт чиновников, сохранятся источники коррупции.
И все же победа нужна, пусть относительная, над нынешней российской государственной коррупцией, ставшей раковой опухолью, разъедающей всю систему государственного управления. По нашему мнению, для ее достижения необходимо сосредоточить усилия на преодоление причин экономического и политического характера. Общественность сегодня трудно убедить в том, что нынешний вал государственной коррупции — последствие пороков (реальных и приписываемых) бывшей советской системы. Попытка уйти от анализа главных экономических и политических факторов, порождающих опасную социально-политическую патологию, к сожалению, наблюдается в «проекте доклада» солидных научно-исследовательских коллективов. Таковых две: 1) спекулятивный передел государственной собственности, в результате которого в стране возник «дикий капитализм» (по определению американского миллиардера Сороса, «грабительский капитализм»); 2) отсутствие демократического общественного контроля за деятельностью властей; блокирование демократических механизмов управления авторитарно-бюрократическими. Усилия государства и общественности в борьбе с коррупцией не окажутся бесплодными, если они будут направлены прежде всего на выкорчевывание ее причин, порожденных и порождаемых становлением самих политической и экономической систем.
За общими причинами государственной коррупции кроются специфические, зависящие всецело от качества личного состава государственного аппарата, от порядка подбора корпуса государственных служащих, его управленческой культуры, ответственности перед государством и обществом, наконец, от его правовой и социальной защищенности. За последние годы руководством государства проделана значительная работа по созданию новой структуры, по внедрению новых принципов, форм и методов деятельности государственной службы. Это выливается в административную реформу.
Реализация концепции административной реформы предполагает формирование такой государственной службы, в основу которой будет положена «система заслуг и достоинств», антикоррупционная программа, а также усиление ответственности региональной и местной власти. «Система заслуг и достоинств» показала свою эффективность во многих странах мира. Она означает:
— превращение государственной службы из службы « государевой» (как это традиционно было и сохраняется в нашей стране) в службу подлинно гражданскую;
— гибкую, не ориентированную на иерархию систему формирования и обновления государственного аппарата;
— отбор (преимущественно конкурсный), продвижение и удержание на государственной службе наиболее квалифицированных и добросовестных людей;
— более ясную дифференциацию статуса «карьерных» и «политических» чиновников («политических назначенцев»);
— строгую определенность должностных обязанностей;
— создание режима, обеспечивающего, с одной стороны, подконтрольность института государственных служащих, с другой — его правовую защищенность от произвола и некомпетентности руководителей и средств массовой информации;
— рационализацию затрат на содержание госаппарата, прежде всего увеличение доли прямых материальных стимулов и снижение косвенных, ликвидацию «теневых» привилегий. Суммарное уменьшение бюджетных затрат на государственный аппарат должно быть обеспечено за счет перевода на самоокупаемость многочисленных служб обеспечивающего характера;
— расширение и изменение практики контрактов. В частности, вместо штатного расписания основой кадровой работы станет смета расходов на выполнение соответствующих функций государственного органа. В свою очередь, это неизбежно будет вести к сокращению численности аппарата и повышению уровня оплаты труда государственных служащих при одновременной интенсификации их работы;
— повышение внимания к вопросам административной этики, оживление практической ценности понятия служебной репутации.
Особое значение для организации деятельности аппаратов государственной власти и управления и формирования их кадров имеют Федеральные законы «Об основах государственной службы Российской Федерации» (принят Государственной Думой 5 июля 1995 г.), «О системе государственной службы Российской Федерации» от 27 мая 2003 г., «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 2004 г., Федеральная программа «Реформирование государственной службы Российской Федерации (2003—2005 годы)», утвержденная Указом Президента России 19 ноября 2002 г. Они устанавливают правовые основы организации государственной службы РФ, основы правового положения государственных служащих РФ.
В законах определяются порядок прохождения государственной службы, необходимость проведения конкурсов и испытаний при замещении государственной должности государственной службы, порядок аттестации государственного служащего и ряд других важных моментов.
Особое значение имеет закрепление в законах принципов государственной службы. Впервые в подобного рода российских документах закреплены принципы, соответствующие конституционным нормам. В их числе: обязанности госслужащих признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина, приоритета этих прав и свобод; единства системы государственной власти, разграничения предметов ведения между Российской Федерацией и субъектами РФ; равного доступа граждан к государственной службе в соответствии со способностями и профессиональной подготовкой. Следует подчеркнуть и такие принципы государственной службы, как внепартийность государственной службы; отделение религиозных объединений от государства; обязательность для государственных служащих решений, принятых вышестоящими государственными органами и руководителями в пределах их полномочий и в соответствии с законодательством РФ; единство основных требований, предъявляемых к госслужбе; ответственность госслужащих за подготавливаемые и принимаемые решения, неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей.
Вместе с тем многие вопросы организации государственной службы и кадровой политики до сих пор еще не решены и требуют пересмотра. Сложившееся к настоящему времени положение дел не стимулирует эффективную деятельность государственных служащих, не дает им ясных перспектив должного роста, не решает вопросы контроля и применения мер ответственности за некачественную, недобросовестную работу, за неисполнение решений.
Все это резко затрудняет деятельность органов власти и управления, отчасти делает их, с одной стороны, безвластными, с другой — неуправляемыми со стороны общества, неподконтрольными ему, а действия их нередко нелегитимными, противоправными, а порой опасными для настоящего и будущего России. Как отмечалось в Послании Президента РФ Федеральному собранию (1997 г.), «власть, не ограниченная правом, опасна. Право, не обеспеченное властью, бессильно. Первое много раз подтверждалось нашей историей. Второе становится очевидным сегодня». Однако, на наш взгляд, все более очевидно было и тогда, и сегодня не только второе, но и первое. То, что власть, не ограниченная правом опасна, убедительно подтверждается далеко не только нашей историей, но и событиями сегодняшнего дня. Более того, все более распространенной и очевидной является ситуация, когда становится опасной для законопослушных граждан и общества в целом даже власть, ограниченная правом, но зачастую не считающаяся с ним, действующая по своему усмотрению, с позиций своих субъективных интересов. Не случайно борьба с коррумпированностью власти, в том числе высоких должностных лиц, с откровенными и грубыми нарушениями законов РФ, субъектов РФ, нормативных документов, элементарных прав и свобод граждан со стороны многих властных структур приобретает сейчас характер одной из важнейших государственных задач.
Для решения этих и других проблем в соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 24 ноября 2000 г. № Пр-2331 разработана и утверждена 15 августа 2001 г. № Пр-1496 Концепция реформирования системы государственной службы Российской Федерации, в соответствии с которой и разработана Программа ее реформирования на 2003—2005 гг. [13].
Программа реформирования государственной службы нацеливает на решение следующих проблем, имеющих исключительно важное значение для повышения эффективности всей системы государственного управления:
— нарушение принципа единства государственной службы и системы управления ею на федеральном и региональном уровне;
— неразработанность законодательных механизмов взаимосвязи государственной и муниципальной службы;
— наличие противоречий и пробелов в законодательстве Российской Федерации о государственной службе;
— несоответствие социального и правового положения государственного служащего степени возлагаемой на него ответственности;
— низкая эффективность деятельности государственных органов;
— слабое использование современных технологий государственного управления, в том числе отвечающих задаче реализации масштабных государственных программ и проектов;
— низкая эффективность правовых и организационных мер контроля деятельности государственных органов со стороны гражданского общества;
— недостаточная эффективность кадровой политики в сфере государственной службы;
— сохранение консервативной системы подготовки и профессионального развития государственных служащих;
— недостаточная ресурсная обеспеченность государственной службы.
Все эти проблемы тесно связаны между собой и не могут быть решены в отдельности. Реформирование государственной службы намечается проводить в рамках концепции административной реформы и сбалансированного развития, и оно должно не состоять из одномоментных кардинальных изменений существующей государственной службы, а проводиться последовательно и постепенно.
Для повышения эффективности государственной службы и государственного управления уже в ближайшие годы предстоит решить ряд задач:
— пересмотреть систему финансирования государственного аппарата в плане увеличения прямых денежных выплат за счет сокращения доли косвенных расходов (строительство и содержание зданий, транспортное, бытовое, иное обслуживание), не наращивая нынешние бюджетные расходы;
— ограничить рост численности государственного аппарата;
— выработать единые для федерального и регионального уровней правила должностного роста государственных служащих, в том числе механизма эффективного использования кадрового резерва и ротации кадров в единой системе государственной службы;
— создать нормативную основу и современную инфраструктуру подготовки, повышения квалификации и оценки труда государственных служащих;
— установить четкие основания, а также процедуры привлечения к дисциплинарной и материальной ответственности государственных служащих; ввести институт дисциплинарного разбирательства.
Целесообразно кодифицировать все акты, регулирующие вопросы государственной службы, и в перспективе принять кодекс государственной службы.
Решение этих задач Правительством, Администрацией Президента РФ, органами государственной власти субъектов РФ позволит создать важные предпосылки серьезного улучшения функционирования государственной службы и повышения эффективности всех ветвей государственной власти [14].
Экономическая, политическая и социальная стабильность общества — один из главных факторов, определяющих эффективность государственного управления. Очевидно, что при отсутствии таковой государственным органам приходится затрачивать максимум усилий и ресурсов (не считаясь с потерями) на погашение конфликтов и создание ситуации, при которой был бы возможен выбор оптимальных решений. В широком смысле понятие стабильности означает сохранение государственной системой своих институтов и осуществление основных функций при изменяющейся социальной среде. Стабильность, устойчивость политической и экономической систем, а также общественных отношений, — это такое их состояние, когда происходящие изменения не ведут к нарушению нормативно-ценностной базы процессов жизнедеятельности людей, когда любые отклонения и действия субъектов (политических, экономических и пр.) корректируются реализацией установленных, легитимных норм. Неправомочные действия погашаются правомочными. Стабильность общества — состояние, при котором возникающие потребности и интересы социальных субъектов артикулируются системой, и каналы артикуляции сами адаптируются к новым потребностям. Иными словами, — когда государственная система управления, механизмы экономического и социального регулирования более или менее адекватно реагируют на проявляющиеся запросы и ожидания граждан и способствуют их удовлетворению. В числе постоянно действующих факторов стабильности экономические, работающие на поддержание достаточного уровня благосостояния народа; социально-оптимальное равновесие различных групп интересов; идеологические и социально-психологические, ориентирующие поведение членов общества на ценности и нормы существующей системы.
Стабильность общества зависит от уровня институционализации управляющих структур и легитимности органов государственной власти и управления. Развитые государства отличаются от менее развитых, с нестабильными политическими системами, высоким уровнем институционализации, комплексной легитимностью (правовой и общественной), широким участием граждан в управлении государственными и общественными делами. Важнейшим политическим фактором стабильности выступает системное равновесие государственной власти и влияние на управление политических партий [15].
Применительно к России как государству, переживающему переходный этап развития, стабильность может рассматриваться в двух аспектах: с одной стороны (в динамике), как показатель эффективности управления процессом модернизации, а с другой (в статике) — в качестве необходимого условия (фактора) для дальнейшего повышения эффективности. Тот факт, что в стране создана и существует новая политическая система (как бы неоднозначно ни относились к ней различные политические и социальные силы), что вместо централизованной плановой экономики в основном сформировалась рыночная экономическая система, базирующаяся главным образом на частной собственности на средства производства, что государственный социализм заменен капитализмом («диким», «грабительским», «нецивилизованным» и пр.), что сложилась иная классовая структура, антагонистический характер отношений между социальными группами, — все это свидетельствует об определенном уровне эффективности деятельности пришедших в августе 1991 г. к власти политических либерально-демократических сил, поддержанных на президентских выборах 1996 г. 40 млн. российских избирателей. В стране функционирует система государственного управления, опирающаяся на конституционные нормы, правда, по-разному интерпретируемые правящими группировками. Значительная часть населения, особенно молодого и среднего возраста, приспособилась к новым условиям жизни.
При оценке отмеченных и других исторических изменений многие адепты современного режима, равно как и его противники, впадают в крайности: первые на все смотрят сквозь розовые очки, а вторые — через черные. Отвергая тот и другой подходы, судя о состоянии общества по реальным результатам ельцинских реформ, трудно не заметить доминирующую в стране политическую и социальную нестабильность. Объективная ее общепризнанная реальность — глубокий системный кризис. Государство и общество пребывают в кризисном состоянии многие годы, что свидетельствует больше о неэффективности нынешней системы государственного управления, чем о ее эффективности. В свою очередь, существующая нестабильность — та преграда, которая стоит на пути развития страны и успешного руководства обществом и государством. Сложилась крайняя поляризация общества. В 1998 г. 32 млн. человек (25% населения) имели денежный доход ниже прожиточного минимума, в 2004 г. — 31 млн. чел. Разрыв доходов 10% наиболее и 10% наименее обеспеченного населения резко вырос: в 1992 г. превышение размеров доходов первой группы над доходами второй составляло в 8 раз, в 2004 г. — 15 раз. В апреле 1998 г. 1,5% россиян владели 65% национального богатства [16]. Широкие слои населения оказались в положении голодающих из-за систематической невыплаты заработной платы, пенсий, денежных пособий. По данным Министерства труда и социального развития РФ, численность безработных составила к концу 1998 г. около 8,6 млн. человек, или 11,8% экономически активного населения. Хотя к началу 2004 г. она и сократилась до 6 млн. чел., однако все еще весьма велика [17].
Общество постоянно сотрясают социальные конфликты, хотя и локального характера; сформировались конфликтогенные регионы: Северный Кавказ, Кузбасс, Дальневосточное Приморье.
Социологические опросы показывают, что главные узлы напряженности и конфликтов связаны с различиями в доходах. Данное противоречие становится определяющим по отношению к другим, в том числе — между руководителями и подчиненными и по политическим взглядам. Социальное расслоение идет и в аспекте углубления неравенства между региональными общностями. Так, Москва и многие миллионы москвичей по существу превратились в особую привилегированную группу населения со значительно более высоким уровнем материальной жизни. Средний уровень душевых доходов в Москве в четыре раза превышает общероссийский, а с учетом более высокой стоимости жизни — в три раза. В особом положении находятся районы добычи нефти и газа, например, Тюменская область, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа, где душевой доход (при учете более высоких цен) выше среднероссийского в 1,7 раза. Вместе с тем в некоторых регионах (Марий Эл, Дагестан, Поволжье) доходы населения намного ниже, чем в среднем по России [18].
Многочисленные негативные проявления экономической составляющей системного кризиса на рубеже веков — обвальный спад производства, потеря государством львиной доли собственности и превращение его в международного должника, обвал в 1998 г. финансовой системы — создали сложнейшую экономическую ситуацию. Со всей остротой встала проблема модели проводимых в стране реформ по изменению социально-экономических отношений. К 2000 г. проблема выбора политико-экономической стратегии для нашей страны остается той проблемой, которая разделяет стоящие у власти и оппозиционные силы на противоположные лагери.
Политические колебания правящих кругов между разноликими моделями реформ: польской, бразильской, аргентинской не исключают возможности усиления внимания к китайской модели, осуществление которой обеспечило КНР известный всему миру огромный экономический прогресс. Между тем эта модель, не в пример российской, демонстрирует открытость реформ, отказ правящей партии от идеологического догматизма и переход на путь экономического прагматизма. Новый подход китайского руководства страной воплотился в известной формуле Ден Сяопина: «Неважно, какого цвета кошка — черного или белого, главное, чтобы она ловила мышей». Важно, чтобы и для российских либеральных реформаторов, стало главным не то, какого цвета кошка, а то, способна ли она ловить мышей.
Экономическая нестабильность определяет политическую и социальную.
Поляризация социальных групп — не единственный негативный процесс в нынешней России. Наряду с укреплением таких групп, как российская буржуазия (включая кучку нуворишей и олигархов) и «новая бюрократия», приобретшие признаки классов, происходят существенные социальные сдвиги в «низах». Появился многочисленный слой частных собственников, который, по мнению известного отечественного социолога М. Руткевича, можно отнести к мелкой и средней буржуазии. В их числе десятимиллионная армия «челноков». По официальной терминологии, это — так называемый средний класс. Его развитие, безусловно, в известной мере ограничивает дестабилизирующее влияние социально-классовой поляризации, замедляет созревание социального антагонизма, но не блокирует. Тем более, что после пика экономического кризиса 17 августа 1998 г. массы «челноков» оказались у «разбитого корыта», «челночный промысел» на время в значительной степени перестал быть доходным.
Говоря об источниках социальной нестабильности, было бы грубой ошибкой не учитывать обострившиеся за последние годы межнациональные противоречия в стране. Они взорвались кровавыми конфликтами: вначале осетино-ингушским, а затем — тяжелым кризисом, а в 1995—1996 гг. и в 2000-2003 гг. бесславной необъявленной войной на территории Чеченской Республики. Последствия их пока не преодолены и постоянно проявляются в многочисленных актах терроризма, дестабилизирующих ситуацию в Северо-Кавказском регионе и в целом в стране.
Опаснейшим дестабилизирующим фактором является криминализация российского общества и государства. Общеизвестно, что преступность не только продолжает расти, но и пронизывает теперь уже многие сферы общественной жизни, включая политическую. Доминирующая преступность — экономическая, прямо связанная с проведенной в стране приватизацией, перераспределением государственной собственности в интересах кучки активистов первоначального накопления капитала и «новой бюрократии». Каждый вновь приступавший к должности председатель Правительства обещал покончить с криминализацией экономики, с преступностью на почве этнонациональных конфликтов, не допустить проникновения криминальных элементов в органы законодательной и исполнительной власти. Однако криминализация — следствие совокупности условий, сложившихся в ходе капитализации общества; это явление — спутник системного кризиса, охватившего страну, и высасывающее из нее жизненные соки. Поражение преступности возможно при условии вывода страны из нынешнего кризиса.
Экономический кризис, социальная поляризация населения и обнищание его большинства, криминализация общества порождают политическую нестабильность. Первичная причина всех этих явлений, ускоренная капитализация страны, а непосредственная реформ — имевшая место тактика проведения либерально-демократических общественных отношений.
Наиболее значительно потрясли политическую ситуацию в стране за последние годы три события: острый политический кризис в сентябре—октябре 1993 г. и насильственное прекращение конституционной деятельности Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации, сопряженное с многочисленными человеческими жертвами; осуществление военных действий на территории Чеченской Республики (декабрь 1994— 1996 гг.; 2000—2003 гг.); обсуждение и голосование в Государственной Думе Федерального Собрания РФ материалов Специальной комиссии Госдумы об отрешении президента РФ Б.Н. Ельцина от должности. Каждое из названных политических событий в разной степени, но негативно влияло на процесс государственного управления обществом и существенно подрывало доверие население к правящему режиму. И политическая нестабильность получила такое развитие, что едва ли она была преодолена очередными выборами Государственной Думы. По мнению многих отечественных политиков и ученых, а также зарубежных аналитиков, дестабилизирующий элемент заложен в дисбалансе полномочий президентской власти и Федерального Собрания РФ.
Юристы подсчитали, что у Президента РФ, согласно Конституции, 80% властных полномочий, а остальные 20% полномочий делят между собою традиционные ветви власти. Президентская власть возвышается над всеми другими ветвями власти и представляет собою особый вид государственной власти, не относящийся к какому-либо известному в теории ее ответвлению. По-видимому, такой статус главы государства позволил Б.Н. Ельцину за 8 лет уволить в отставку 6 председателей Правительства, 45 заместителей Председателя и 100 министров, что, конечно, не способствовало политической стабильности.
Постоянные конфликты в 90-х годах прошлого века между президентской властью и правительством, с одной стороны, и законодательной властью, с другой, объективно обусловлены отмеченными социально-классовыми противоречиями в обществе. А субъективно — отсутствием у политической элиты культуры поведения в системе, где функционирует оппозиция. До тех пор, пока оппозиция (любая) будет рассматриваться как враждебная сила по отношению к режиму, а не как явление, нормальное в демократическом государстве, неизбежны всплески острых политических конфликтов.
Каким образом мешает политическая нестабильность эффективному государственному управлению? Во-первых, она порождает периодические политические кризисы, подрывающие легитимность системы и нарушающие процесс государственного управления, отвлекающие усилия властей на их преодоление; во-вторых, чрезмерно политизирует и идеологизирует управленческий процесс, отодвигая на второй план рациональную мотивацию социально-экономического выбора и принятие прагматических административно-государственных решений; в-третьих, является препятствием на пути объединения наиболее активных слоев общества для решения проблем модернизации; в-четвертых, снижает престиж государства в международном сообществе; наконец, в-пятых, остроконфликтные политические ситуации стимулируют управляющие субъекты на принятие скороспелых и зачастую ошибочных решений или решений временных, с тем, чтобы погасить разногласия и противоречия.
Экономическая, социальная и политическая нестабильность и ее последствия смещают вектор политического развития в сторону авторитаризма. Чем нестабильней система, тем шире возможности для утверждения диктаторских принципов и методов управления и больше ограничений (причем зачастую оправданных) демократии. Давно доказано историческим опытом, что любые авторитарные режимы — плод развития общественно-политических кризисов.
* * *
Итак, эффективность государственного управления проявляется на всех уровнях функционирования системы: от отдельной организации — до местного общества, от местного уровня — до регионального, от регионального сообщества — до социальной системы и ее политической организации — государства. На каждом из уровней эффективность измеряется своими критериями, характеризующими соотношение целей и результатов, а в иной плоскости соответствие результатов интересам управляющих и управляемых, выраженных в целях. Высшим критерием эффективности системы государственного управления в целом служит полнота реализаций ее функций. В обобщенном выражении — это сохранение данных политической системы и общества, обеспечение их целостности, единства и безопасности, а также защита интересов всех групп населения, прав и свобод граждан.
Целостность государства и единство общества — результат эффективного государственного управления, основа обеспечения их безопасности и условие достижения благосостояния народа. Отсюда фундаментальное значение общесистемной формы организации власти и управления. В многосоставных сообществах такой формой является федерализм. Его анализу посвящается следующая глава настоящей работы.
Литература
1. Лапин Н. Модернизация ценностей России // Социс. 1996. № 5.
2. Рывкина Р.В. Социальные корни криминализации России / / Социс. 1997. № 4.
3. Там же. С. 76.
4. О бюджетной политике на 2000 год. Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию РФ // Российская газета. 1999. 13 апреля.
5. Теория государства и права. М., 1997. С. 99.
6. Государство и общество // Информационно-аналитический отчет об итогах социологического исследования. Сентябрь. - М., 1998. С. 8.
7. Там же. С. 10.
8. Там же. С. 11.
9. Игнатов В.Г. Государственная и муниципальная служба в современной России. — Ростов н/Д: Изд-вд СКАГС, 2004. С. 51-52.
10.Вайков В.Э. Государственная служба: Взгляд изнутри и извне (социологический анализ) // Социология власти. Вестник социологического центра РАГС. № 1. 2003. С. 22.
11.Российская газета. 1997. 25 сентября; Там же. 2002. 19 апреля.
12.Россия и коррупция: ...кто кого? // Российская газета. 1998. 13 февр.
13.О Федеральной программе «Реформирование государственной службы РФ (2003-2005 гг.)». Указ Президента РФ Путина В.В. от 19 ноября 2002 г. № 1336 // Российская газета. 2002. 23 ноября.
14.Игнатов В. Повышение эффективности государственной власти и управления — жизненно важная проблема сохранения российской государственности // Проблемы повышения эффективности государственной власти и управления в современной России. С. 12—13; Государственная служба современной России: проблемы реформирования и эффективного функционирования / Под ред. В.Г. Игнатова. — Ростов н/Д., 2003; Государственная служба: Учебник / Под ред. В.Г. Игнатова. - М.: МарТ, 2004.
15.Зеркин Д.П. Основы политологии. С. 427.
16.Парламентская газета. 27 апр. 1999; АИФ. 1997. № 18.
17.Российская газета. 2004. 6 марта.
18.Руткевич М. Трансформация социальной структуры российского общества // Социс. 1997. №7.
Глава 12. Государственное управление и федерализм
В политической истории проявляются две закономерные тенденции в функционировании и развитии государственной власти и управления: централизация и децентрализация, выше описанные нами. Если первая заключается в возрастающем сосредоточении властных и управленческих полномочий в высших институтах государства, то вторая, напротив, — в переходе этих полномочий нижестоящим в политической системе или автономным, относительно самостоятельным, государственным субъектам. Соотношение уровней централизации и децентрализации власти и управления обусловливает формы государственного устройства и организации власти и управления. Таковыми являются унитарная форма и федерация. Они характеризуют национально-территориальную организацию государственной власти и управления и представляют реализацию форм государственного устройства — унитаризма и федерализма [1]. Унитаризм (от лат. unitaire — единство) выражается в доминировании централизации государственной власти и управления, а федерализм представляет собой одну из форм децентрализации, а именно — национально-территориальную.
Для России, являющейся федеративной республикой, проблема федерализма приобрела высокую степень остроты и значимости в теоретическом и политико-практическом отношениях. Характер, состояние и тенденции развития федеративных отношений здесь выступают важнейшими факторами эффективности государственного управления. Анализ федерализма поможет понять сложность и противоречивость взаимодействия управляющих субъектов различных уровней в процессе их деятельности и полнее выявить потенциал управляющей системы.
1. Федерализм как форма организации и принцип государственного управления
Федерализм (от лат. federate — союз, объединение) — понятие, обычно относимое к ряду политико-правовых. И это верно, если иметь в виду лишь принцип территориальной организации государства. Однако уже с первых шагов исторической жизни этого понятия, связанного с созданием федеративного государства США (1787) оно, по крайней мере имплицитно, несло в себе политолого-управленческий смысл. А. Токвиль, исследовавший американскую демократию, отмечал: «Американцы столкнулись с первой трудностью, речь шла о разделении власти таким образом, чтобы различные штаты, входящие в состав Союза, продолжали управлять своими делами самостоятельно во всем, что касается их внутреннего благосостояния, и чтобы при этом вся нация, представленная Союзом, существовала как единое целое и обладала бы властью, необходимой для обеспечения всех общих для нее потребностей» [2]. Стало быть, для родоначальников федерализма последний означал, во-первых, четкое разделение властных и управленческих полномочий между Союзом (государством), представляющим всю нацию, и штатами — отдельными частями Союза; полномочия первого необходимы для обеспечения общих для всей нации потребностей и существования Союза (государства) как единого целого, а полномочия штатов — для самостоятельного управления делами, касающимися обеспечения их внутреннего благосостояния; во-вторых, установления взаимоотношений штатов с Союзом по принципу части и целого; самостоятельное управление штатами своими делами осуществляется в рамках целостного, единого государства; в-третьих, организацию такой формы территориального разделения власти, при которой осуществляется демократическое управление общими государственными делами и жизнью штатов, сочетается государственное управление с самоуправлением.
В дальнейшем американская модель федерализма трансформировалась применительно к особенностям конкретных государств. В частности, в одних странах федерализм характеризует территориальную форму организации государственной системы, в других, как в России, — национально-территориальную. Американская модель исключает принцип рецессии (выхода) штата из союза, тогда как в России такой запрет отсутствует. Основные же черты американской модели сохранились и стали классическими принципами федерализма.
В настоящее время в мире существует много федеративных государств — и крупных, и сравнительно небольших. Среди них и страны с высоким уровнем капиталистического развития, и новые индустриальные страны, и развивающиеся государства.
Российская Федерация — самая многочисленная по количеству объединяемых ею субъектов. В государствах, сравнимых с Россией по таким параметрам, как площадь территории проживания или численность населения, почти в 2 раза или даже в 2— 3 раза меньше входящих в них субъектов Федерации. Так, в США 50 штатов, в Индии — 32 (25 штатов и 7 союзных территорий), в Канаде — 12 (10 провинций и 2 территории). В Аргентине — 22 провинции и 1 национальная территория, в Австралии — 6 штатов и 2 территории, в Германии — 16 земель. В Нигерии 36 субъектов федерации, в Мексике — 31, в Бразилии — 26, в Венесуэле — 22. Есть и другие федеративные государства, с меньшим числом входящих в них штатов, земель, провинций или территорий (Австрия, Австралия, Малайзия и др.).
Современный федерализм — это национально-территориальная форма разделения власти и объектов управления между центральным (общегосударственным) субъектом и региональными субъектами, обеспечивающая самостоятельное управление ими делами регионов в рамках единого государственного союза, наделенного полномочиями для защиты и реализации интересов всего сообщества. Федеративная система представлена несколькими государственными субъектами, объединившимися в единый политический союз для реализации общих целей. Субъекты образуются по территориальному или национально-территориальному признакам.
Являясь исторически необходимой формой государственного устройства, федерализм вместе с тем есть и принцип функционирования специфической системы государственного управления в многосоставном обществе, в котором субъекты федеративных отношений выступают самостоятельными полюсами разделенной власти и одновременно как части целого, как основные составляющие единой системы управления. Специфика федерализма как формы организации государственной власти и принципа управления заключается в способе разделения труда (властных и управленческих функций) между государственными субъектами различных уровней системы управления, в территориальном разграничении объектов их деятельности и в сочетании централизации и децентрализации власти. Федерализм означает усиление демократии в управлении государством; процесс принятия решений распределяется между несколькими уровнями системы, а не сосредоточивается в одном месте, как это происходит в централизованном государстве. Участие граждан в управлении государственными делами становится доступней и эффективней.
Децентрализация власти и управления в федерации осуществляется в горизонтальном и в вертикальном планах. Горизонтальное разделение заключается в воспроизведении в рамках территорий федеральных субъектов трех видов государственной власти и органов управления: законодательных, исполнительных и судебных. Вертикальное разделение выражается в образовании двух-трех уровней власти и управления: федерального (высшего), регионального (субъектов Федерации) и местного самоуправления. Такова, например, вертикальная структура власти и управления в России. А, скажем, федерализм в Австралии характеризуется преимущественно двумя уровнями государственного управления.
Федерализм как принцип государственного управления включает обязательное сочетание функционирования относительно самостоятельных (автономных) территориальных центров (субъектов Федерации) с существованием и реализацией единой системы власти и управления, с высшим федеральным центром. Территориальное распределение полномочий относительно, ибо центр и субъекты федерации действуют бок о бок на одной и той же территории, управляют одним и тем же ее населением, имея хотя бы одну сферу общественной жизни, по отношению к которой каждый их них может принимать окончательные решения. Для центра — это сфера интересов всего общества, для субъекта федерации — сфера интересов отдельного регионального сообщества. К примеру, на территории субъекта РФ действуют одновременно органы федеральной власти и управления: Полномочный представитель Президента России, органы МВД и ФСБ, налоговая инспекция, прокуратура и др. — и областное (республиканское) правительство. Те и другие функционируют на одной и той же территории и управляют одним и тем же сообществом людей. Однако сферы их деятельности и функции различны. Они очерчены Конституцией РФ и были конкретизированы Договором между Федеральным центром и субъектом Федерации. Руководство субъекта РФ может принимать окончательные решения в границах предметов ведения и полномочий, предусмотренных Основным Законом государства и указанным Договором.
Нарушение установленного соотношения полномочий региональных субъектов и Федерального центра: смещение акцентов на региональную децентрализацию власти и управления или, наоборот, на концентрацию властных и управленческих функций в Федеральном центре — подрывает федерализм. Объективная мера сочетания централизации и децентрализации власти и управления определяется совокупностью условий, при которых реально возможно единство системы управления и целостность государства. Субъективно — мера сочетания устанавливается законодателем и руководящими органами в соответствии с пониманием ими реальной структуры общества, уровня и характера социально-экономических различий между территориальными и этнона-циональными сообществами, а также конкретной ситуации в стране, складывающейся на том или ином историческом этапе развития. Отсюда возможность неоднозначного выбора вариантов построения федеративной системы с соответствующими последствиями для управления.
Федерализм как принцип внутригосударственных отношений и территориально-вертикальной формы распределения власти и управленческих функций — не алгоритм, воспроизводимый в государственной системе без каких-либо противоречий и конфликтов. Противоречия возникают между центром и региональными субъектами: между единством государственного союза, потребностью реализации федеративной власти, с одной стороны, и относительной самостоятельности субъектов Федерации, реализацией власти на уровне регионов и местных сообществ, с другой; между объективно необходимой тенденцией централизации власти и управления и потребностью их децентрализации. Они естественны, поскольку реальны существенные различия государственных, региональных и местных интересов, а в кризисных ситуациях — даже противоположность общих, территориальных и частных интересов. В переходные периоды, как, например, на современном этапе в России, на противоречия постоянные, естественные наслаиваются противоположности, разделяющие власти и отдельные слои населения, центр и некоторые региональные общности по вопросам, связанным с отношением к старым и новым государственным структурам и социально-политическим институтам.
Основой деятельности по разрешению внутрифедеральных противоречий является государственная региональная политика, обеспечивающая самостоятельность региональных центров власти и субъектов управления и одновременно доминирование в конституционных рамках Федерального центра. Принципы субсидарности (договоренности), партиципации (участия), арбитрирования (обращение в случае конфликта к арбитру-посреднику) составляют органически взаимосвязанные элементы политического государственного руководства федеративными отношениями [3]. Методологическим критерием разрешения противоречий служит требование достижения сочетания противоположностей, баланса интересов Федерального центра и конкретного регионального субъекта.
2. Специфика формирования и функционирования федеративной организации государственной власти и управления в России
Российская модель федерализма строится с учетом исторического семидесятилетнего опыта советского федерализма. В РСФСР как союзной республике СССР сочетались провозглашение и ограниченная реализация (в основном де-юре) принципов федерализма с политическим унитаризмом как фактической практикой взаимодействия союзного центра и входящих в СССР республик, как реальной системой государственного управления региональными сообществами.
В то же время российский федерализм новой модификации начал формироваться в ситуации двойного вызова пришедшим к власти после августа 1991 г. политическим силам: надо было реконструировать в основном унитарную форму государственности и соответствующую ей авторитарную систему управления и одновременно противостоять опасности распада России как государства, созданного в свое время на тех же принципах, что и СССР. Развал Советского Союза сказался на проявлении сепаратистских тенденций внутри России. В их основе лежало стремление ряда регионов в условиях острейшего системного кризиса попытаться улучшить свое положение, самостоятельно распоряжаясь экономическим богатством природными ресурсами региона, плодами своего труда, получить большую свободу, уменьшить зависимость от центра. Процесс суверенизации охватил все автономные республики и административно-национальные образования. Все они объявили себя самостоятельными субъектами, а республики провозгласили свой государственный суверенитет.
Отрицание советской модели ограниченного, в основном формального, федерализма перерастало в разрушение устоев федерализма как такового. На политическом горизонте замаячил конфедеративизм. Вместе с тем на волне огульной критики национально-территориального принципа построения федеративной системы стали раздаваться призывы возвратиться к административно-территориальному принципу организации власти и управления, положив в основу губернское построение государства, тем самым вернуться к унитаризму дооктябрьского (1917) образца.
На развитие дезинтеграционных процессов влияли не только такие субъективные факторы, как, например, амбиции тех или иных политиков, рост национального самосознания народов, усиление националистических настроений. Важное значение в этом отношении имело и то, что существование полностью суверенной России началось в условиях еще не сформированного государственного аппарата, практически отсутствия нового механизма хозяйствования, способного обеспечить управление посредством рыночных рычагов в условиях крушения административно-хозяйственной системы управления экономикой и распада прежних хозяйственных связей.
Ослаблению влияния Центра на регионы, потере управляемости экономикой из единого центра, укреплению республиканско-региональных политической и административно-хозяйственной элит способствовали реализуемые в 1991-1992 гг. принципы государственного управления, согласно которым федеральные органы власти ответственны лишь за макроэкономические проблемы, только координируют хозяйственную деятельность, не должны в условиях якобы «саморегулирующегося рынка» заниматься государственным управлением экономикой, планированием.
Первым серьезным шагом на пути сохранения единства России стал Федеративный договор, подписанный 31 марта 1992 г. в Кремле большинством субъектов Российской Федерации. Он включил в себя три близких по содержанию договора о разграничении полномочий между федеральными органами государственной власти и органами субъектов Федерации всех трех типов (суверенных республик в составе РФ; краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга; автономных областей и автономных округов).
Договор носил компромиссный характер и явился результатом большой подготовительной работы, начавшейся еще в 1990 г. В процессе его выработки было рассмотрено около 30 различных вариантов проекта договора. В ходе их обсуждения стало очевидно, что идею национальной государственности, заложенную в советских конституциях и в известной мере претворенную в жизнь, активно поддерживают современная национальная административно-политическая элита и титульные нации, в связи с чем вернуться к территориальным образованиям невозможно. Поэтому были отвергнуты и многочисленные предложения возвратиться к дореволюционному губернскому устройству России на территориальной основе и к федерации национальных государств с преимущественными правами на территории титульных наций и минимальными полномочиями Центра. В последнем случае учитывалось, что из 89 субъектов Федерации более чем в 80 доля представителей нетитульных наций (главным образом, русских) составляет более половины населения, и ущемлять их интересы не только нельзя, но и опасно. В основу Федерального договора был заложен принцип учета интересов всех народов России, и это несколько снизило внутриполитическое напряжение в стране.
Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. положило конец дискуссии по проблеме выбора основной формы государственного строительства и системы управления регионами. Принцип федерализма в его новой модификации сохранил свою роль в качестве нормативно-правовой базы организации Российского государства, системы государственной власти и управления.
Конституция РФ узаконила статус 89 субъектов Федерации, наделенных шестью разными статусами. В их числе 21 республика, 6 краев, 49 областей, 2 города федерального значения (Москва и Санкт-Петербург), одна автономная область и 10 автономных округов. В Конституции заложено неравенство субъектов в их взаимоотношениях с центром — республики обладают большими правами, чем края и области. Конституцией признается как бы «несимметричная» федерация, хотя в ней и записано (статья 5), что субъекты РФ равноправны. Российский федерализм не исключает запрет на выход субъектов из состава Федерации, вместе с тем провозглашая принцип сохранения целостности государства, который сочетается с правом самоопределения народов, как это было записано в ранее действовавших советских конституциях. В этом зафиксировано еще одно из существенных противоречий государственного строительства наряду с «несимметричностью» федерации.
Для российского федерализма как формы государственного устройства и ныне характерно соединение национально-государственных и территориальных принципов формирования федеративного государства. При таком подходе учитывается, что на протяжении веков Россия была и остается полиэтническим государством, объединением и даже союзом более сотни народов (в настоящее время согласно самоидентификации у нас проживает 176 этносов различной численности). Унитарная политическая структура дополнялась, а зачастую органично соединялась с разнообразными формами национально-культурной самобытности, особым управлением и самоуправлением различными регионами, наличием в национальных окраинах своих законодательных актов и даже конституций.
Современный российский федерализм строится на правовом разграничении предметов ведения и полномочий между Российской Федерацией и субъектами Федерации. Согласно ст. 71 Конституции РФ в ведении Федерации находятся:
а) принятие и изменение Конституции Российской Федерации и федеральных законов, контроль за их соблюдением;
б) федеративное устройство и территория Российской Федерации;
в) регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина; гражданство в Российской Федерации; регулирование и защита прав национальных меньшинств;
г) установление системы федеральных органов законодательной, исполнительной и судебной власти, порядка их организации и деятельности; формирование федеральных органов государственной власти;
д) федеральная государственная собственность и управление ею;
е) установление основ федеральной политики и федеральные программы в области государственного, экономического, экологического, социального, культурного и национального развития Российской Федерации;
ж) установление правовых основ единого рынка; финансовое, валютное, кредитное, таможенное регулирование, денежная эмиссия, основы ценовой политики; федеральные экономические службы, включая федеральные банки;
з) федеральный бюджет; федеральные налоги и сборы; федеральные фонды регионального развития;
и) федеральные энергетические системы, ядерная энергетика, расщепляющиеся материалы; федеральные транспорт, пути сообщения, информация и связь; деятельность в космосе;
к) внешняя политика и международные отношения Российской Федерации, международные договоры Российской Федерации; вопросы войны и мира;
л) внешнеэкономические отношения Российской Федерации;
м) оборона и безопасность; оборонное производство; определение порядка продажи и покупки оружия, боеприпасов, военной техники и другого военного имущества; производство ядовитых веществ, наркотических средств и порядок их использования;
н) определение статуса и защита государственной границы, территориального моря, воздушного пространства, исключительной экономической зоны и континентального шельфа Российской Федерации;
о) судоустройство; прокуратура; уголовное, уголовно-процессуальное и уголовно-исполнительное законодательство; амнистия и помилование; гражданское, гражданско-процессуальное и арбитражно-процессуальное законодательство; правовое регулирование интеллектуальной собственности;
п) федеральное коллизионное право;
р) метеорологическая служба, стандарты, эталоны, метрическая система и исчисление времени; геодезия и картография; наименования географических объектов, официальный статистический и бухгалтерский учет;
с) государственные награды и почетные звания Российской Федерации;
т) федеральная государственная служба.
В совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находятся:
а) обеспечение соответствия конституций и законов республик, уставов, законов и иных нормативных правовых актов краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов Конституции Российской Федерации и федеральным законам;
б) защита прав и свобод человека и гражданина; защита прав и национальных меньшинств; обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности; режим пограничных зон;
в) вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и другими природными ресурсами;
г) разграничение государственной собственности;
д) природопользование; охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности; особо охраняемые природные территории; охрана памятников истории и культуры;
е) общие вопросы воспитания, образования, науки, культуры, физической культуры и спорта;
ж) координация вопросов здравоохранения; защита семьи, материнства, отцовства и детства; социальная защита, включая социальное обеспечение;
з) осуществление мер по борьбе с катастрофами, стихийными бедствиями, эпидемиями, ликвидация их последствий;
и) установление общих принципов налогообложения и сборов в Российской Федерации;
к) административное, административно-процессуальное, трудовое, семейное, жилищное, земельное, водное, лесное законодательство, законодательство о недрах, об охране окружающей среды;
л) кадры судебных и правоохранительных органов; адвокатура, нотариат;
м) защита исконной среды обитания и традиционного образа жизни малочисленных этнических общностей;
н) установление общих принципов организации системы органов государственной власти и местного самоуправления;
о) координация международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации, выполнение международных договоров Российской Федерации.
Записанные в Конституции РФ положения о разграничении предметов ведения и полномочий между Центром и субъектами РФ в равной мере распространяются на республики, края, области, города федерального значения, автономную область, автономные округа. При этом вне пределов ведения Российской Федерации и предметов совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации субъекты РФ обладают всей полнотой государственной власти, осуществляют собственное правовое регулирование, включая принятие законов и иных нормативных правовых актов.
В Конституции РФ выстраиваются три системы исполнительной власти:
1)единая система исполнительной власти в Российской Федерации, которую образуют федеральные органы исполнительной власти и органы субъектов Федерации в пределах ведения и полномочий Федерации, а также по предметам совместного ведения Федерального центра субъектов РФ; осуществление полномочий федеральной государственной власти на всей территории России обеспечивается Президентом и Правительством РФ, в чем и выражается вертикаль власти, единство системы;
2)система органов государственной власти субъектов Федерации, устанавливаемая ими самостоятельно в соответствии с основами конституционного строя и общими принципами организации органов государственной власти, определенных федеральным законом;
3)система органов власти местного самоуправления, выведенная за пределы государственной власти.
По нашему мнению, ни систему органов государственной власти субъектов РФ, ни, тем более, систему местного самоуправления нельзя считать подсистемами, т.е. составными частями единой системы. Первая и устанавливается самостоятельно и в рамках своего предмета ведения и собственных полномочий обладает всей полнотой государственной власти. Ее взаимосвязь с единой системой государственной власти — лишь в общих конституционных основах. Система местного самоуправления вообще, согласно законодателю, не относится к государственной власти, не несет на себе ее функции.
Отметим, что Конституция не включает в единую систему государственной власти в России органы законодательной власти РФ и субъектов Федерации.
Соответственно отмеченным системам власти в РФ организуются центры (уровни) государственного управления: общефедеральный и региональный — и муниципальное управление (местное самоуправление). В Конституции РФ они не обозначены, равно как и нет понятий «система управления» или «система власти и управления». Отсутствие этих понятий в Основном Законе, по-видимому, объясняется тем, что его идейно-теоретический фундамент составляет либеральная концепция государства.
Принципиально важно подчеркнуть относительный (мягкий) характер разграничения предметов ведения и властных полномочий Федерации и ее субъектов.
Согласно ст. 78 Конституции, те и другие органы власти «по согласованию» между собой «могут передавать» друг другу «осуществление части своих полномочий, если это не противоречит Конституции Российской Федерации и федеральным законам». Законодатель не говорит о форме согласования, скажем, о договоре.
Данный термин вообще в Конституции не используется. Поэтому нынешняя практика заключения договоров между федеральным центром и субъектами Федерации о разграничении властных полномочий, если следовать букве Основного Закона, не дает основания характеризовать Российскую Федерацию как конституционно-договорную. Тем более как договорную. Практика создала правовой прецедент, который должен был получить юридическое оформление. Конституционные основы федерализма судьбоносны для страны и государства, и они не могут модифицироваться прецедентными нормами, введенными даже главой государства.
«Мягкость» разграничения предметов ведения и полномочий между Федеральным центром и субъектами Федерации, предоставленная Конституцией России возможность взаимной передачи части полномочий — «взаимное делегирование» полномочий — это одно из компромиссных положений, обусловленных переходным периодом, переживаемым страной, и незавершенностью процесса формирования российского федерализма. Его реализация, бесспорно, способствовала разрешению некоторых противоречий, возникших в последние годы между отдельными субъектами Федерации и Федеральным центром, но не сняла их полностью. Так, конституционный конфликт, возникший в свое время между Российской Федерацией и Татарстаном, объявившим себя суверенным государством и «субъектом международного права», был в определенной мере разрешен Договором о разграничении предметов ведения и полномочий. Но только в определенной. В любой момент конфликт может получить свое развитие. Действовавшие в то время Конституция Татарстана и его Договор с Российской Федерацией по сути узаконивали статус Татарстана, приближенный к субъекту конфедерации.
Конституция РФ не сняла и не могла снять всех противоречий, связанных со становлением новой модели федерализма как формы устройства государственной власти и системы государственного управления, однако она заложила правовую базу для дальнейшего его совершенствования и обеспечения управляемости государством как единым целым. На действующей конституционной основе руководством государства разрабатывается политика по созданию сбалансированной системы взаимных прав и ответственности Федерации и каждой ее составной части. Эта система предполагает:
— обеспечение полного и безусловного осуществления функций, отнесенных к исключительному ведению Российской Федерации, только федеральными органами государственной власти;
— перенос акцента в сфере предметов совместного ведения на регулирующую, координирующую и контролирующую роль федерального центра;
— законодательную конкретизацию конституционного понятия единой системы исполнительной власти в Российской Федерации;
— политику дифференцированного (в зависимости от конкретных условий) делегирования исполнительно-распорядительных функций в сфере предметов совместного ведения органам власти субъектов Федерации под их полную ответственность;
— реализацию вместе с властями субъектов Федерации в рамках предметов совместного ведения программ и проектов, направленных на выравнивание социальных и экономических условий;
— обеспечение правовой защиты законных интересов местного самоуправления [4].
Для выстраивания такой системы предстоит предпринять ряд шагов организационного, финансового и правового характера.
В частности, для сохранения и дальнейшего развития российского федерализма исключительно важное значение имеет четкое взаимодействие региональных и местных властей. Поставлена задача, чтобы соответствующие федеральные органы обеспечивали работникам своих территориальных подразделений условия, гарантирующие их независимость от региональных и местных властей. В то же время обязанностью органов исполнительной власти субъектов Федерации и органов местного самоуправления остается организационная помощь федеральным органам при осуществлении ими своих функций на местах.
Для таких целей разрабатывается твердо установленная процедура взаимодействия региональных и местных властей с территориальными подразделениями федеральных структур.
Для укрепления российского федерализма и эффективного его функционирования как формы организации власти и управления необходимо не допускать принятия субъектами РФ и органами местного самоуправления законов, противоречащих положениям Конституции РФ и федеральным законам, а также преодолевать практику неисполнения предписаний Конституции и правовых установлений центральных органов власти и управления. Должен быть создан действенный механизм защиты единого правового пространства России как необходимого условия развития целостного федеративного государства и обеспечения его управляемости. Нужно законодательное закрепление системы инструментов федерального контроля за законностью нормативных актов субъектов РФ, предусматривающей, в частности, введение федерального регистра правовых актов субъектов РФ и установление конституционно-правовых санкций за умышленное неподчинение правовым актам федеральных органов власти и управления. Принципиально важно и то, чтобы законодательная деятельность регионов была ориентирована на реализацию конституционного установления на дальнейшее расширение самостоятельности субъектов Федерации в сочетании с углублением единства и целостности государства. Значительную роль в этом отношении призвана сыграть и играет реализация Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 119-ФЗ «О принципах и порядке разграничения предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации» (утратил силу со дня вступления в силу Федерального закона от 4 июля 2003 г. № 95-ФЗ).
Итак, складывающийся в настоящее время российский федерализм — это национально-территориальная форма демократического устройства государства, общегосударственной системы власти и управления;
— это нормативно-правовое закрепление и реально осуществляемое разграничение властных и управленческих полномочий и функций, а также ресурсов в виде собственности между федеральными и региональными органами, но это не «развод» между ними, а необходимое условие сотрудничества на благо всех граждан России;
— это рациональная форма децентрализации государственной власти и управления, закономерная передача властных и управленческих полномочий и средств для их осуществления из Центра в регионы вместе с ответственностью за реализацию функций и использование средств;
— это сочетание трех уровней власти и субъектов управления: федерального, регионального и местного, где акцентируется роль местного самоуправления как первичного уровня, без которого не может быть ни федерализма, ни подлинной демократии;
— это система устройства власти и управления, обеспечивающая целостность государства и одновременно гарантирующая самостоятельность развития регионов как частей единого политического союза многонациональной России.
Такова нормативная модель российского федерализма и ее видение с позиции оценки тенденций практического воплощения.
По мере становления нового федерализма выявляются противоречия, проистекающие из некоторых конституционных установок и порожденные реальным функционированием федеральных институтов и норм. Теоретический анализ их необходим: он поможет расширить наши представления о специфике российского федерализма и понять новые проблемы его функционирования как общесистемной формы и принципа организации государственной власти и управления.
3. Тенденции развития и проблемы федеративной формы организации государственной власти и управления в России
В настоящее время в печати, институтах государства широко обсуждаются вопросы совершенствования общей конструкции власти и управления, главным образом связанные с федеративной формой организации взаимодействия субъектов Федерации с Центром, с практическим осуществлением конституционных норм федерализма в государственном управлении. Дискуссию питают реальные проблемы, с которыми сталкиваются государственные органы в своей деятельности. И, кроме того, — те тенденции и противоречия, которые обозначились в таких явлениях, как неуправляемость регионами и дезинтеграция. О неуправляемости, а точнее говоря, о факторах, препятствующих эффективному государственному управлению, во весь голос заговорили представители Центра и губернаторы. О дезинтеграции пишут политики, не стоящие у власти, многие аналитики, занимающиеся проблемами федерализма, и журналисты, сигнализирующие об опасности регионализма, «тихом разломе» государства и т. п.
Каковы же причины проблем, вызывающих беспокойство широкой общественности и властей предержащих за положение в государстве? В большинстве своем они сводятся участниками дискуссии к несовершенству нынешней федеративной формы организации системы государственной власти и управления. Есть, правда, политические деятели, отвергающие вообще федерализм как форму организации нашего государства. Но их мнение не встречает поддержку ни в законодательных, ни в исполнительных органах государства. Конституционно закрепленная федеративная форма Российского государства и федерализм как принцип государственного управления в общем соответствуют социально-экономическим, политическим и культурологическим особенностям страны, ее национальным традициям. Попытки противников федерализма аргументировать свою точку зрения ссылками на государственное устройство царской России не убеждают; историю страны не повернуть вспять, как бы некоторые консерваторы ни желали такое осуществить. Проблема заключается не в разрушении федерализма, а в достройке нынешней модели, в приведении федеративной организации государственной власти и управления в соответствие с современным переходным состоянием общества, его политической и экономической систем, складывающейся новой социальной структурой.
Обозначим главные узлы российского федерализма, порождающие антисистемные тенденции и факторы, стимулирующие явления неуправляемости регионами и местными сообществами.
Первое. Противоречивость принципов федеративного устройства Российского государства, заложенных в Конституции РФ.
Они выше отмечались. Это: а) противоречивое сочетание принципов формирования субъектов Федерации — национально-государственного и административно-территориального; б) провозглашение принципов целостности государства и в то же время права народов на самоопределение (отсутствие запрета на выход из состава Федерации); в) признание формального равенства субъектов Федерации и вместе с тем заложенное в Конституции неравенство их во взаимоотношениях с Центром и между собою по объему прав, иначе говоря, «асимметричность» Федерации; г) сочетание конституционного принципа формирования федеративного государства с практикой договорного разграничения предметов ведения и полномочий между Федеративным центром и субъектами РФ.
Указанные противоречия в своей основе объективно обусловлены многонациональным составом общества, предшествующим историческим опытом федеративного строительства (главным образом советским) и приверженностью к нему большинства населения национальных регионов; международными принципами взаимоотношений наций внутри государств; существующими в стране существенными различиями в уровнях социально-экономического развития регионов. Если говорить о субъективных причинах противоречий, то они проявляются в выборе политическим руководством вариантов и механизмов реализации конституционного принципа строительства федерализма и распределения объектов управления и властных полномочий. В частности — договорного варианта, который, при отсутствии правового регламентирования, таил в себе элементы субъективизма.
Второе. Не только формальное, но и фактическое неравенство субъектов Федерации, выражающееся в существенных различиях геополитической роли, которую играют они в Федерации, а также научно-технического, демографического и культурного потенциалов, с чем связаны диспропорции уровней реализации общенациональных стандартов социальных благ. Стоит ли, скажем, доказывать наличие многократного превосходства финансово-экономического и научно-технического потенциала Москвы или Санкт-Петербурга над другими субъектами РФ? В двух столицах России сосредоточены львиная доля финансового капитала и основная часть научно-производственных и научно-исследовательских центров страны. Здесь основной информационный ресурс.
Политическая атмосфера в стране в значительной мере определяется той атмосферой, которая складывается в Москве и Санкт-Петербурге. С таким неравенством многие регионы, располагающие значительным экономическим потенциалом и играющие возрастающую роль в государстве, не согласны и стремятся противостоять доминирующему влиянию городов-гигантов. Даже в политическом плане, например, практикуется организация региональных избирательных блоков при проведении выборов в Государственную Думу.
Существует и другая проблема: несоответствие новым геополитическим и экономически реалиям социально-экономического развития некоторых административно-территориальных делений. Так, северные районы и Приморье в настоящее время играют важную роль в обеспечении стратегических интересов страны, а их геополитическое положение «окраин» страны закрывает путь к развитию в условиях перехода к рыночной экономике. Возникшее противоречие толкает эти районы к обособлению от других регионов.
Фактическое неравенство во многом закрепляется договорной практикой разграничения объектов управления и полномочий между Центром и субъектами Федерации. Восприятие лидерами субъектов РФ выдвинутого политическим руководством России в период борьбы против союзного государства лозунга «берите столько суверенитета, сколько можете переварить» стимулировало стремление (особенно лидеров национальных образований) расширить сферу своего влияния и круг полномочий без учета интересов государства и соседних регионов. А вновь приобретенное не каждому хочется отдавать. Отсюда соответствующая политическая позиция — источник противоречий в федеративных отношениях. Не желая обострять их, а, напротив, стремясь законсервировать (хотя бы временно), Центр при заключении договора с тем или иным регионом ориентировался прежде всего на уже используемые данным субъектом РФ объем полномочий и масштабы управляемого им объекта. Кроме того, на принимаемое согласованное решение могут оказывать влияние социально-политическая и экономическая роль субъекта в обеспечении стратегических интересов государства; политическая позиция лидера субъекта РФ, его близость к высшему руководству государства; политическая конъюнктура и т.д. В печати высказывалось мнение, что провозглашаемые Центром правила взаимоотношения с регионами имеют двойной стандарт: «для бедных и слабых субъектов Федерации они обязательны, а для богатых и национально ориентированных они не действуют».
Подведение юридической основы под договорную практику разграничения сфер общественных отношений, регулируемых федеральными органами государственной власти и органами субъектов Федерации, и властных полномочий поставит заслон отмеченным негативным явлениям. Такой основой являются Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 119-ФЗ «О принципах и порядке разграничения предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации», а также Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» с внесенными в него в 2000—2003 гг. изменениями [5].
Законы устанавливают принципы: конституционности, верховенства Конституции Российской Федерации и федеральных законов, равноправия субъектов РФ при разграничении предметов ведения и полномочий, недопустимости ущемления прав и интересов субъектов РФ, согласования интересов Российской Федерации и субъектов РФ, добровольности заключения договоров и соглашений, обеспеченности ресурсами, гласности заключения договоров и соглашений. Так, согласно принципу конституционности, любые нормативные акты Российской Федерации и субъектов РФ, включая договора и соглашения, не могут передавать, исключать или иным образом перераспределять установленные Конституцией Российской Федерации предметы ведения Российской Федерации, предметы совместного ведения. Принцип равноправия субъектов РФ фиксирует необходимость соблюдения этой важнейшей нормы во взаимоотношениях их с органами государственной власти России при разграничении предметов ведения и полномочий, в том числе при подготовке и заключении договоров и соглашений. Законами устанавливаются формы реализации полномочий по предметам ведения Российской Федерации и совместного ведения РФ и субъектов Федерации; определен порядок заключения договоров и соглашений. Важно подчеркнуть п. 2, ст. 32 Федерального закона от 24 июня 1999 г. №119-ФЗ: «Договоры и соглашения, действующие на территории Российской Федерации до вступления в силу настоящего Федерального закона, подлежат приведению в соответствие с настоящим Федеральным законом в течение трех лет со дня его вступления в силу». Субъектам Федерации предлагается привести в соответствие с данным законом «свои законы» и иные правовые акты в течение двенадцати месяцев со дня вступления его в силу. Теоретически значение принятых Федеральных законов для дальнейшего совершенствования федерализма как формы устройства государственной власти и управления в стране очевидно. Подтвердить его должна практика. В законах сформулированы требования, реализация которых позволит существенно снизить влияние на федеративную организацию системы государственного управления противоречия, связанного с фактическим неравенством между субъектами РФ в их взаимоотношениях с Федеральным центром.
Третье. Конструкция государственной власти и управления, формы реализации в ней принципа федерализма. Мы уже отмечали отсутствие в России реальной единой системы государственной власти и управления. Несмотря на то, что в Конституции провозглашается единая система исполнительной власти, образуемая федеральными органами власти и органами субъектов Федерации в пределах ведения и полномочий Федерации, а также по предметам совместного ведения Федерального центра и субъектов РФ, фактическое строительство ее не завершено. Этот вывод подтверждается многочисленными высказываниями в печати руководящих лиц различных уровней государственной иерархии — лидера парламента, глав Правительства, губернаторов и других ответственных чиновников.
Так, бывший в то время Председателем Правительства России Е.М. Примаков, выступая в Совете Федерации в декабре 1998 г., подчеркнул важность вопроса об укреплении федерализма. Он предложил восстановить вертикаль власти: местное самоуправление — администрация субъектов Федерации — Федеральный центр. Восстановление властной вертикали, по мнению Е.М. Примакова, является условием сохранения и укрепления целостности государства. Процесс создания вертикали власти оратор связал с развитием экономических взаимоотношений между субъектами Федерации. Такие взаимоотношения (рыночные и сотрудничества) будут способствовать преодолению фрагментарности России, превращению ее в реальное социально-экономическое (а не только правовое) государственное образование.
Председатель Правительства РФ СВ. Степашин (ныне также бывший) в своем выступлении на экономическом форуме в Санкт-Петербурге (июнь 1999 г.) подчеркнул необходимость оптимизировать отношения федеральной и региональной власти: «Для эффективного регионального развития России особенно важно единство всех ветвей власти как на федеральном, так и на региональном уровне». «История учит — тесная взаимосвязь политического федерализма с экономическим — основа сильного демократически и экономически развитого государства. В конечном счете объединению территорий способствует здравый экономический расчет, единство интересов, делегирование определенных экономических и политических функций на уровне... централизующей власти, при сохранении значительных экономических полномочий и свобод регионов...» [6] Председатель Совета Федерации Е.С. Строев, выступая на том же форуме, назвал среди приоритетов политики правительства «укрепление системы власти в стране», а также «ответственность власти перед обществом, ее подконтрольность» [7].
Опытный губернатор Ярославской области А.И. Лисицын пишет о слабости, даже «аморфности» власти. «Сегодня власть фактически имеет два разрыва. Первый — на уровне «губернатор — местное самоуправление». Губернатор может местному самоуправлению «только что-то рекомендовать». Местное самоуправление имеет право не выполнять решения губернатора. Второй разрыв на уровне «губернатор — Президент». Избранный губернатор менее зависим от президента и правительства. Большая степень свободы: но она не работает на благо устройства всей вертикали государственной власти. Каждый руководитель пытается проводить свою политику в регионе — в области экономики, в политической, социальной сферах. Каждый регион стал устанавливать модель своих экономических отношений. «Отсутствует единая политика в экономике» [8].
Известный ученый-юрист, начальник правового управления Аппарата Государственной Думы В.Б. Исаков отмечает, что Конституция РФ ликвидировала советскую систему, базировавшуюся на принципе «демократического централизма»: подчиненности меньшинства большинству, обязательности решений вышестоящих органов для нижестоящих; упразднила понятия «вышестоящий», «нижестоящий». Принцип демократического централизма заменен принципом разделения властей. Теперь каждый уровень власти имеет свою компетенцию и должен действовать в ее рамках, уважая права других субъектов. «Теоретически это более совершенная система». Очевидно, однако, что новая система взаимодействия федеральных структур, субъектов Федерации и местного самоуправления «находится в стадии становления, сопровождаемого массой болезненных коллизий» между ними. Пока «реформаторам» не удалось создать оптимальную модель государственной власти, которая соответствовала бы нынешнему состоянию общества. Старая вертикаль государственного управления разрушена, принципы новой системы не отработаны, муниципальные органы чувствуют себя вообще вне государства. Отсюда — постоянные трения между органами власти различного уровня, всеобщая безответственность, бесконтрольность в распоряжении собственностью и расходовании бюджетных средств, реальная угроза нового распада страны — уже Российской Федерации [9].
Наконец, как бы обобщая дискуссию, развернувшуюся в обществе, президент России Б. Н. Ельцин на встрече с руководителями законодательных органов субъектов Федерации в июне 1999 г. высказал требование о необходимости сочетания широких прав субъектов РФ с соблюдением конституционных принципов и законов Федерации. Иначе говоря, обозначил проблему самостоятельности субъектов РФ и единства государственной власти. Президент поставил вопрос о ликвидации противоречий в законодательных актах региональных субъектов с законами Федерации. Глава государства считает целесообразным ввести порядок, при котором Центр будет иметь право запрещать применение противоконституционных региональных законодательных актов и даже распускать законодательные собрания, принимающие подобные акты, и снимать с должностей глав администраций с последующим назначением новых выборов тех и других. Предложение президента было воспринято неоднозначно: некоторые руководители законодательных собраний высказали опасение, что предлагаемый порядок может быть использован для «сведения счетов» с неугодными для Центра. Подобные сомнения говорят о политической культуре российских властей всех уровней, к сожалению, не привыкших «играть по правилам», установленным законом. А с другой стороны, о существовании реального противоречия между широкими правами регионов и необходимостью обеспечения единой государственной власти, ее вертикали. Только точно отработанный во всех отношениях законодательный механизм может блокировать проявления волюнтаризма во взаимоотношениях федеральных и региональных властей, уничтожить почву для возможных взаимных подозрений и недоверия.
Решению задачи укрепления единства государственной власти во многом способствует Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ (с последовавшими в 2000-2003 гг. вносившимися в него 6 раз изменениями) «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации». В законе, в частности, утверждается принцип единства системы государственной власти субъектов РФ; устанавливается, что законодательные (представительные) и исполнительные органы государственной власти субъектов РФ в соответствии с принципом разделения власти осуществляют свои полномочия самостоятельно. Вместе с тем они взаимодействуют в установленных настоящим законом и законом субъектов РФ формах «в целях эффективного управления процессами экономического и социального развития субъекта Российской Федерации и в интересах его населения» (ст. 23). Закон определяет обязательный характер исполнения законодательных и иных актов, принятых субъектом РФ в пределах его полномочий, всеми органами государственной власти и государственных учреждений, органами местного самоуправления, общественными объединениями, должностными лицами и гражданами, а также предусматривает ответственность за невыполнение или нарушение указанных актов.
Закон предоставляет право Президенту РФ «приостановить действие акта высшего органа должностного лица субъекта Российской Федерации... а также акта органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в случае противоречия этого акта Конституции Российской Федерации, федеральным законам, международным обязательствам Российской Федерации или нарушения прав и свобод человека и гражданина до решения вопроса соответствующим судом» (ст. 29.1).
Особенно много по реализации федеральных законов, направленных на совершенствование разграничения предметов ведения и полномочий между органами государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов Федерации, по совершенствованию и развитию российского федерализма сделано в 2000-2003 гг. под руководством и по инициативе Президента РФ В.В. Путина и аппаратами Полномочных представителей Президента РФ в семи федеральных округах. Как отмечается в Послании 2003 г. Президента РФ В.В. Путина Федеральному собранию РФ [10], стране в последние годы удалось преодолеть абсолютно неприемлемую ситуацию, при которой отдельные российские территории по сути дела находились вне пределов федеральной юрисдикции. Верховенство Российской Конституции и федеральных законов - как и обязанность платить налоги в общефедеральную казну — стали сегодня нормой жизни для всех регионов Российской Федерации.
Следует, однако, иметь в виду, что противоречивость принципов формирования Российской Федерации, ее «асимметричность», фактическое неравноправие субъектов РФ, недостроенность единой общегосударственной системы власти и управления обусловливают два противоположных типа поведения правящих субъектов регионального и федерального уровней власти.
Один тип поведения тяготеет к авторитарному унитаризму, к старым административно-командным методам управления регионами из Федерального центра, местными сообществами — из региональных центров. Главным источником общественных изменений выступает исполнительная власть. 80 субъектов Федерации «посажены Центром на бюджетно-дотационную иглу». Лидеры депрессивных регионов стремятся получить наибольшую помощь от Центра, приспосабливаясь к его «правилам игры», ориентируясь зачастую на корпоративные интересы высокопоставленного чиновничества. Самостоятельность руководства субъекта РФ по отношению к Федеральному центру формальная, фактически же она минимальная. Та же модель взаимоотношений между субъектом Федерации и местным самоуправлением. В отдельных республиках главы муниципальных образований назначаются республиканским руководством и полностью ему подчинены.
Другой — противоположный тип политического поведения субъектов федеральных и региональных властей радикально-либеральный. Это — максимальное сужение объема полномочий и ответственности государства (Федерального центра) за управление регионами и, наоборот, безграничное расширение самостоятельности субъектов Федерации вплоть до превращения их в государства в государстве, а Федерального центра — в «ночного сторожа», охраняющего безопасность регионов, или подобие общероссийского министерства по чрезвычайным ситуациям, которое может вмешиваться в дела субъектов РФ только тогда, когда его позовут на помощь в моменты кризисных ситуаций. Центр долгое время заигрывал с отдельными наиболее сильными в экономическом отношении субъектами РФ, одаривал особыми льготами отдельные республики, постоянно демонстрировал свое стремление расширять их самостоятельность в управлении и независимость, закрывал глаза на явные несоответствия республиканских конституций Основному Закону Российского государства.
Ни один, ни другой тип политического поведения руководящих субъектов Федерации и региональных общностей не могут препятствовать развитию опасной для Российского государства тенденции — его дезинтеграции. Реальность данной тенденции настолько очевидна, что не требует специальной аргументации. «Черной дырой» в организме Российской Федерации называют мятежную Чеченскую Республику. Мы уже отмечали особое политическое и социально-экономическое положение Москвы. Конституция Татарстана и Договор его с Федеральным центром определяли статус этой Республики в правовом отношении как самостоятельного государства. Де-юре независимыми являются Республики Башкортостан и Саха (Якутия). Саха получила право на добычу 98% российских алмазов и их продажу. Идея о государственном обособлении получила отражение в массовом сознании, в особенности у так называемых титульных народов. Так, из числа опрошенных коренных национальностей Башкортостана, Саха, Бурятии от четверти до половины согласились с мнением, что «Россия — это территория Российской Федерации, за исключением бывших автономных республик» [11].
Некоторые политики, теоретики и политические журналисты интерпретируют тенденцию дезинтеграции в драматическом плане. Предвещают неминуемый развал России, подобный тому, какой произошел с Советским Союзом. Не разделяя такого пессимистического прогноза, мы не можем не отметить, что проявления дезинтеграции порождаются в основном теми реальными противоречиями и проблемами государственной власти и управления, о которых шла речь выше. Тенденция «тихого раскола», «ползучего регионализма» и вспышки стихийного сепаратизма — следствие глубокого экономического кризиса и кризиса доверия к Федеративному центру, убедительное подтверждение того, что в государстве пока не выстроена эффективно действующая система власти и управления, опирающаяся на общепризнанные ценностные приоритеты. Отсюда — возможность взаимоисключающих правил политического поведения управляющих субъектов на различных уровнях.
Встречаются рассуждения, что дезинтеграция (регионализм и сепаратизм) во многом порождается историко-культурными факторами: реакцией на длительное подавление властями этнонациональных культурных традиций, языка, ассимиляторскую национальную политику, на былой социалистический интернационализм, на неадекватное административное деление территорий национальных образований в советский период и пр. Влияние названных факторов, конечно, имеет место. Оно проявлялось и раньше, до нынешних российских преобразований, однако не выливалось в опасные для существования России процессы и конфликты регионов с Центром.
Анализ объективных и субъективных факторов, стимулирующих тенденцию дезинтеграции и блокирующих ее, показывает, что потенциал единства Российской Федерации намного превосходит факторы мотивации обособления субъектов Федерации. Противоположностью дезинтеграционных процессов выступают большинство факторов интеграции. Так, в комплексе историко-культурных факторов более весомы и социально значимы традиции многовекового совместного проживания российских народов, то единое социокультурное пространство, которое исторически сложилось. Россия, хотя и полинациональное государство, но образующие ее этносы характеризуются большим единообразием, нежели разнообразием. Цивилизационный «разлом» российского общества, о котором пишут западные социологи, в действительности не является таковым. Атеизм части населения, внутриконфессиональные и межконфессиональные различия культурно-исторических ценностей (православно-христианских, исламских и других) не разделяют Россию на противоположные социокультурные общности. Нерусские народы за столетия подверглись глубокому и всестороннему воздействию русской культуры. Например, русским языком владеет подавляющее большинство нерусского населения.
Несмотря на отдельные разрывы в экономическом пространству России, его единство в основном сохранилось. Рыночные отношения усиливают интегрирующую роль экономических взаимосвязей субъектов РФ, ибо единый национальный рынок — основное условие выхода каждого из субъектов и всей страны из глубокой ямы экономического кризиса и возможности стать конкурентом с международными экономическими агентами. На примере катастрофических последствий развала бывшего единого экономического пространства Союза каждому здравомыслящему национальному и региональному лидеру, промышленнику и любому рядовому гражданину понятно преимущество строительства общероссийской экономики, а не обособленных экономических «анклавов».
Интеграционные процессы в экономике проявляются в формировании территориальных ассоциаций экономического взаимодействия субъектов РФ. В настоящее время функционируют такие межрегиональные ассоциации, как «Сибирское соглашение», «Большая Волга», «Северный Кавказ», «Черноземье» и др. Этот процесс имеет и правовую основу — прежде всего Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности ассоциаций экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации», который играет весьма важную роль в деле межрегиональной экономической интеграции.
Как поиск путей к межрегиональной интеграции следует рассматривать обсуждаемое в политических и административных кругах мнение о возможности укрупнения субъектов Федерации, причем, конечно же, на базе развития экономических, социокультурных и политических взаимосвязей регионов.
Процесс укрупнения субъектов РФ практически уже начался, есть уже и первый опыт. По инициативе Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа, в которых был проведен референдум об объединении этих субъектов РФ, Государственной Думой РФ 19 марта 2004 г. был принят Закон «Об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в результате объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа». Процесс создания в результате этого объединения Пермского края довольно непростой, требует значительных затрат труда и времени. Поэтому, согласно данному Федеральному конституционному закону, новый единый субъект Федерации — Пермский край — должен быть образован к 2005 г., но переходный период закончится только в 2009 г.
К референдумам об объединении готовятся в Иркутской области и Усть-Ордынском Бурятском округе, где оба губернатора выступили за слияние. Ведется работа по объединению Тюменской области и Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского округов, по слиянию Красноярского края, Эвенкии и Таймыра. За «единую Камчатку» выступил губернатор Корякского АО. Идею объединения Свердловской, Челябинской и Курганской областей озвучил свердловский губернатор Э.Э. Россель. Губернатор Ярославской области А.И. Лисицын заявил о готовности «взять на буксир» менее благополучную Костромскую область, губернатор Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко допускает возможность его объединения с Ленинградской областью.
В прессе высказываются предположения о том, что уже в начале второго десятилетия XXI в. в России численность субъектов РФ сократится с 89 до 60-65 или даже до 28 [12].
При этом, однако, следует иметь в виду, что в соответствии с Конституцией РФ процесс объединения субъектов возможен только по инициативе «снизу», при взаимном согласии сторон, принятии соответствующих решений органами их исполнительной и законодательной власти, при согласии населения субъектов, выявленном в результате проведенных в них референдумов. Лишь после положительного решения всех этих процедур Государственная Дума РФ может принять к рассмотрению проект Федерального конституционного закона об образовании нового субъекта РФ. Но на этом пути в каждом субъекте РФ, готовом вступить в процесс укрупнения, предстоит провести огромную организационную и разъяснительную работу, Предусмотреть решение многих весьма существенных «бытовых» вопросов, разрешение имеющихся и возникающих противоречий, в том числе политических и экономических, использовать весь имеющийся потенциал.
Потенциал российской интеграции — в специфическом этно-демографическом факторе. На самоопределение вплоть до отделения от России могут претендовать так называемые титульные нации республик, составляющие 5% населения страны. С точки зрения политико-географических условий отделения могут добиваться только республики — субъекты РФ, расположенные в Северо-Кавказском регионе, и Тува. В совокупности в них проживает 2,5% населения России. Этого слишком мало, чтобы породить угрозу распада государства [13].
Наконец, немаловажное значение для общественной мотивации интеграции общества и государства имеет фактор геополитической безопасности. Катастрофа, постигшая Югославию, разделенную агрессивным национализмом на враждующие государства, — наглядный урок для тех сил, которые стремятся к абсолютному национально-государственному суверенитету своих республик.
Наличие объективных факторов интеграции государства, сохранения его единства, однако, не должно успокаивать ответственных политиков. Объективные факторы «работают» через субъективные. Они должны быть реализованы в эффективной политике, в системе организационных структурных и функциональных взаимосвязей, в единстве государственной власти и управления. Региональная и национальная политика — стержень долгосрочной государственной программы укрепления единства Российского государства и его управляемости. Продуманная и взвешенная региональная политика способствует формированию экономического федерализма и созданию условий для постепенного преодоления существенных различий в уровнях развития регионов и благосостояния населения. А наличие фундаментальных системообразующих законов о собственности, о правах граждан, о денежном обращении, о механизмах, закрепляющих права регионов в системе экономических отношений страны, будет базой для единой системы управления не только экономикой, но также всеми другими общественными процессами.
В национальной политике государство стремится реализовать принципы, обеспечивающие объективно и субъективно необходимое сочетание единства государства, целостность системы власти и управления и самостоятельность республик в управлении своими внутренними делами, в обеспечении удовлетворения национальных потребностей и интересов. Федерация должна неуклонно проводить в жизнь принцип равноправия граждан вне зависимости от их национальности, исключения дискриминации как национальной, так и расовой и религиозной. В России ни одна этническая группа не может обладать исключительным правом на контроль над территорией, институтами власти и ресурсами. В соответствии с международным правом наций на самоопределение национальная политика ориентирована на обеспечение права всех этнических групп представлять и отстаивать свои интересы власти без посягательств на территориальную целостность страны.
В Российской Федерации осуществляется принцип национальной самоорганизации, позволяющий представителям различных национальностей самостоятельно определять и реализовывать свои социально-культурные цели, защищать свои права и свободы, создавать свои ассоциации, общества и другие институты гражданского общества.
Для современного государственного строительства России все более характерным становится учет того, что самоорганизация этнических общностей, не имеющих своих национально-территориальных образований на территории Российской Федерации или проживающих за пределами таких образований, возможна в форме национально-культурных автономий. Использование национально-культурной автономии в сочетании с механизмами местного самоуправления позволит ввести в современную жизнь традиционные формы самоорганизации (казачье, земское, горское и другое самоуправление).
Сохранение и укрепление федеративного государства напрямую зависит от национального самочувствия русских. Это не означает курса на создание «Русского государства» или «Русской республики» в составе Российской Федерации. В России русские составляют абсолютное большинство населения, им не грозит ассимиляция, забвение родного языка, утрата национальной самобытности.
Однако в числе актуальных задач национальной политики обеспечение для русских:
— национального паритета с другими национальностями на территории всех субъектов Федерации, в том числе и равенства в использовании родного языка в официальных отношениях, общественной и культурной жизни;
— реализации права на этнокультурную самоорганизацию путем создания регионально-культурных ассоциаций, землячеств на территориях, где русские находятся в меньшинстве;
— осуществления государственной поддержки программ возрождения регионального многообразия русской национальной культуры, в том числе культуры русских переселенцев.
Необходимо также принятие законов и разработка государственных программ, направленных на сохранение и развитие культур национальных меньшинств и малочисленных народов России, особенно в регионах Европейского Севера, Сибири и Дальнего Востока, Северного Кавказа.
Подводя итог сказанному, следует отметить, что в России предстоит еще немало сделать, чтобы создать такое федеративное устройство государства, которое обеспечило бы эффективную управляемость общества, действительную прочность и незыблемость единства и территориальной целостности страны.
Наиболее сложная, поистине стержневая проблема федерализма как формы государственного устройства и принципа государственного управления — это проблема соединения в одну, общую систему сильной федеральной власти и эффективного государственного управления и самостоятельности в принятии государственных решений в пределах своих полномочий субъектами Федерации. Иными словами, это проблема оптимального сочетания федерализма как демократической децентрализации государственной власти и ее централизации.
Специфика решения данной проблемы в России, на наш взгляд, заключается в том, что стабильность и эффективность федерализма здесь может быть обеспечена при условии сильной центральной власти, при наличии единой вертикали власти и управления на демократической основе. Ранее мы отмечали, что централизм на демократической основе для России можно считать одним из принципов государственного управления.
Какие аргументы говорят в пользу сформулированного тезиса о специфике российского федерализма?
Первое. Наличие самого большого в мире социально-политического пространства, а также «иссеченность» общества многочисленными линиями существенных различий: региональных, этнонациональных, классовых, политических, наконец, религиозных. Такого рода плюрализм общества объективно предполагает федеративное устройство государства при одновременном сохранении и углублении его единства, общности политического и правового пространства, т.е. единства государственной власти.
Сильная и централизованная, формируемая и функционирующая на демократических основах и неукоснительно исполняемых правовых законах власть — первейшее условие существования нашего государства как политического объединения многомиллионного многонационального народа, условие эффективного управления страной.
Второе. Любая модель демократических преобразований не исключает реальную возможность авторитаризма или превращения демократии в охлократию (господство «толпы» — от греч. Ochlos — толпа, чернь и kratos — власть), либо в инструмент господства националистических и региональных олигархий, если государство не защищено единым для всех его частей законом, гарантирующим реализацию основных принципов государственного строя единой системы управления. Не случайно в развитых странах со «старой» и «новой» демократией, в том числе в федеративных, стабильность государства обеспечивается наличием единого стержня государственной власти: президентской (США), парламентской (Великобритания), президентско-парламентской (Франция).
Третье. Федерализм в нынешнем его состоянии, как отмечалось, не исключает националистических и сепаратистских поползновений отдельных республик и регионов. Нынешняя переходная историческая ситуация объективно требует органически соединять федерализм с сильной централизующей властью (с элементами унитаризма). Централизованная власть в действительном федеративном государстве выступает выражением и воплощением общей воли большинства населения страны. Сочетание вертикальной и горизонтальной (территориальной) структур государственной власти и управления только и может обеспечить подлинный демократический федерализм.
Четвертое. Федерализм, сочетающийся с сильной централизованной властью, предохранит Россию от тенденции к конфеде-ративизму, возобладание которой означало бы распад Российского государства.
Литература
1. Юридическая энциклопедия. — М., 1997. С. 461.
2. Токвиль А. Демократия в Америке. - М., 1992. С. 102-103.
3. Полис. 1998. № 1. С. 161.
4. См.: Послание Президента РФ Федеральному Собранию «Общими силами к подъему России (О положении в стране и основных направлениях политики Российской Федерации)». -М., 1998. С. 60.
5. Парламентская газета. 1999. 30 июня; Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. № 42. Ст. 5005; 2000. № 31. Ст. 3205; 2001. № 7. Ст. 608; 2002. № 50. Ст. 4930; Российская газета. 2003. 8 июля.
6. Парламентская газета. 1999. 22 июня.
7. Там же.
8. Парламентская газета. 1999. 21 апреля.
9. Парламентская газета. 1999. 2 июня.
10.См.: На юбилейной сессии Конгресса. Вступительное слово Президента России В.В. Путина // Местное самоуправление. 2003. № 22. С. 5.
11.См.: Хенкин С. Сепаратизм в России — позади или впереди // Pro et contra. Весна. 1997. С. 11.
12.Российская газета. 2004. 16 апреля; 21 апреля, 27 апреля, 1 октября; Аргументы и факты. 2004. № 15. С. 4; № 23. С. 2, 4.
13.Бразаускас А. Слагаемые государственного единства // Pro et contra. Весна. 1997. С. 32.
Глава 13. Взаимодействие государственного управления с местным самоуправлением5[5]
Сфера действия системы управления в государстве не ограничивается региональным уровнем. Она завершается местным уровнем, где управление преобразуется в самоуправление локальных территориальных сообществ. Без преувеличения можно сказать, что от его организации местного самоуправления и эффективности его деятельности зависит действенность государственного управления страной, поскольку российское общество слагается из сотен тысяч местных сообществ. Ключевая проблема заключается в том, каков механизм взаимодействия государственного управления с местным самоуправлением и обеспечивает ли он единство системы управления государственной и общественной жизнью страны. Рассмотрению ее и посвящается заключительная глава данного издания.
1. Местное самоуправление — демократическая основа управления в государстве
Российский и зарубежный опыт показывают, что деятельность системы государственной власти и управления может быть эффективной лишь при условии, что она основывается на жизнеспособной структуре местного самоуправления. Ведь почти все государственные решения, касающиеся интересов граждан, так или иначе проходят через местные органы, реализуются в жизнедеятельности местных сообществ. Люди ощущают результаты государственной политики и оценивают ее прежде всего через призму удовлетворения своих жизненных нужд и интересов, через состояние продовольственного рынка, жилищных условий, общественного порядка в городах и сельских поселениях, через способность образовательных учреждений и органов здравоохранения удовлетворять потребности человека в приобретении соответствующего образования и сохранении здоровья и т.д. Именно на местном уровне формируются основы понимания людьми собственной ответственности за свою судьбу, за судьбу близких, да и за положение в стране. Это учитывалось в опыте российского государственного управления прошлого века (создания земства), а также в деятельности местных Советов СССР. Однако жесткая политическая регламентация деятельности местных Советов не позволяла им в полной мере выполнять декларируемые конституционные установки. Понятие «местное самоуправление» в советской Конституции 1976 г. отсутствовало. Оно поглощалось понятием «Местные органы государственной власти и управления», включавшим «Советы народных депутатов» в краях, областях, автономных областях и округах, городах, районах, поселках, сельских населенных пунктах. Принятием Закона СССР (апрель 1990 г.) «Об общих началах местного самоуправления и местного хозяйства в СССР» в Конституцию было включено понятие «местное самоуправление». Это, однако, не изменило политическую природу местных Советов как органов государственной власти и управления. Правда, в Конституции СССР (в редакции 26 декабря 1990 г.) было записано: «В системе местного самоуправления, кроме местных Советов народных депутатов, могут действовать в соответствии с законодательством республик органы территориального общественного самоуправления, собрания граждан, иные формы непосредственной демократии». Деятельность местных Советов осуществлялась на основе принципа «демократического централизма», включавшего выборность органов государственной власти, «обязательность решений вышестоящих органов для нижестоящих».
Самостоятельность местных Советов сводилась к минимуму не только потому, что они должны были строго исполнять все предписания вышестоящих Советов, которые могли к тому же отменить любое решение местных органов, аргументируя их нецелесообразностью или незаконностью. Реальное положение местных Советов было таково, что они полностью зависели от материальных и финансовых ресурсов, выделяемых вышестоящими инстанциями, а также от ресурсной поддержки действующих на территориях, подведомственных конкретным Советам, государственных предприятий и колхозов. Так называемые градообразующие предприятия и колхозы, села или объединения сел доминировали в хозяйственной и социальной жизни местных сообществ, а руководство этими предприятиями было фактической корпоративной властью, прикрываемой формальной государственной властью местных Советов. К сожалению, противоречие между формальной самостоятельностью органов местного самоуправления, провозглашенной Конституцией РФ, и материально-финансовой зависимостью этих органов от государственной поддержки субъектов Федерации проявляется и в современных условиях. Оно приобретет разрушительный для демократии характер, если органы местного самоуправления окажутся еще и в зависимости от денежного мешка местного капитала.
В России формируется система местного самоуправления на основе «Европейской хартии о местном самоуправлении» в соответствии с Конституцией РФ и Федеральным законом от 28 августа 1995 г. № 154-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Как записано в Законе, «местное самоуправление, как выражение власти народа, составляет одну из основ конституционного строя Российской Федерации» и является признаваемой и гарантируемой Конституцией РФ самостоятельной и под свою ответственность деятельностью населения по решению непосредственно или через органы местного самоуправления вопросов местного значения, исходя из интересов населения, его исторических и иных местных традиций (ст. 2). Названы важнейшие вопросы местного самоуправления: управление муниципальной собственностью, формирование, утверждение и исполнение местных бюджетов, установление местных налогов и сборов, охрана общественного порядка. Данный перечень вопросов может быть дополнен федеральными и региональными законами.
В соответствии с Законом местное самоуправление осуществляется в городских и сельских поселениях и на других территориях. При этом на территории сельского района, например, местное самоуправление может быть представлено тремя видами территориальных образований: село, сельский округ, (волость, сельсовет), сам район (уезд). Территории же муниципальных образований устанавливаются в соответствии с законами субъектов РФ с учетом исторических и иных местных традиций. Муниципальное образование представляет собою городское, сельское поселение, несколько поселений, объединенных общей территорией, часть поселения, иная населенная территория, предусмотренная Законом, в пределах которой осуществляется местное самоуправление, имеется муниципальная собственность, местный бюджет и выборные органы местного самоуправления. Причем муниципальная собственность признается экономической основой самостоятельности местного самоуправления.
По состоянию на начало 2001 г. в стране зарегистрировано 12 215 муниципальных образований, из них 625 городов, 516 поселков, 153 городских района и округа, 1404 района, 9314 сельских округов, 203 сельских населенных пункта.
В ряде субъектов РФ в конце 90-х гг. не было муниципальных образований. Например, в республиках Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Коми, Саха (Якутия), в Тульской области.
Федеральный закон определяет структуру органов местного самоуправления. К ним относятся: выборные представительные органы, состоящие из депутатов, избираемых населением; исполнительные органы — глава муниципального образования, также избираемый населением (назначение должностных лиц самоуправления Законом запрещено); иные коллективные органы местного самоуправления и институты прямого волеизъявления граждан (местный референдум, муниципальные выборы, собрания граждан и др.).
Отправляясь от «Европейской хартии», российский закон определяет местное самоуправление несколько иначе. А именно: в определении опущено положение о праве и способности самоуправления «регламентировать значительную часть государственных дел и управлять ею, действуя в рамках закона» и в интересах местного населения. Следовательно, «Европейская хартия» в сферу деятельности местного самоуправления включает не только местные дела, но прежде всего «часть государственных дел», которыми местные власти должны управлять «под свою ответственность». При этом «Хартия» (ст. 4 и 5) устанавливает, что при делегировании полномочий центральными или региональными органами власти местные органы самоуправления «должны, насколько это возможно, обладать свободой приспосабливать их осуществление к местным условиям». Концепция местного самоуправления, изложенная в «Европейской хартии», на наш взгляд, позволяет рассматривать его как составной элемент общей системы управления государством и обществом, как систему органов власти, «наиболее близкой к гражданам».
Федеральный закон РФ реализует идею «Хартии» о местном самоуправлении как самостоятельной и под свою ответственность деятельности по решению вопросов местного значения, исходя из интересов населения. Однако Закон отделяет органы местного самоуправления от государственной власти, что соответствует ст. 12 Конституции РФ. «В Российской Федерации признается и гарантируется местное самоуправление. Местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно. Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти». При этом Конституция РФ (ст. 72, ч. 1, п. «в», «н») относит «установление общих принципов организации системы органов государственной власти и местного самоуправления» к совместному ведению России и ее субъектов. Это означает, что Федеральный закон о местном самоуправлении является рамочным, его установочные положения могут и должны быть развиты в законах о местном самоуправлении, принимаемых с учетом своих условий субъектами Федерации.
Жесткое разграничение органов местного самоуправления с системой органов государственной власти, сформулированное законодателем, по-видимому, в значительной мере по политическим мотивам полного отрицания местных советов порождает основную проблему: как обеспечить единство системы управления государственными и общественными делами; как сохранить необходимую централизацию государственной власти и управления, обеспечив оптимальную демократическую децентрализацию. Практика первых лет реформирования местного самоуправления показывает, что субъекты Федерации стремятся найти решение этой проблемы в тех возможностях, которые предполагаются рамочным характером Федерального закона и вытекают из концепции местного самоуправления. Один из вариантов решения — конкретное определение сферы действия местного самоуправления, о чем пойдет речь ниже.
Выведение органов местного самоуправления из системы государственной власти не означает, что они исключаются из системы общегосударственного управления в целом, прежде всего в политическом плане, а также в нормативно-правовом. Местное самоуправление является первичным уровнем публичной власти и системы управления в стране, наиболее приближенным к народу. Его органы формируются из выделенных местных сообществ путем демократических выборов групп граждан, которым делегируется единая воля сообществ и право управлять ими. Деятельность органов местного самоуправления регламентируется Конституцией РФ и другими законодательными актами, как и органов государственного управления. Властная воля реализуется и обеспечивается демократическими механизмами государства, опирается не только на общественное мнение членов сообщества, на их традиции и обычаи, но и в конечном итоге на правовые нормы и стоящие за ними институты государственного принуждения. Местное самоуправление — это фактический институт управления местным сообществом, учрежденный государством, но действующий самостоятельно от государственных организаций в пределах законом установленных полномочий. Он отличается в принципе от общественного самоуправления, поскольку последнее не институциализируется, а является спонтанно возникающей и функционирующей формой активности граждан в любой области общественно, в том числе в государственном управлении и местном самоуправлении.
Местное самоуправление, будучи формой публичной (народной) власти, несет в себе политический аспект. Его назначение — выражать и защищать интересы данного сообщества, регулировать взаимоотношения между различными социальными слоями и группами, а также с другими сообществами и с государством. Местное самоуправление не есть просто самодеятельная общественная структура, это — гражданский и правовой институт, элемент государственного (политического) устройства и система организации деятельности местного территориального сообщества в области управления общественными и некоторыми государственными делами, в преломлении их потребностям и условиям местного сообщества. Иными словами, это легитимная форма самоорганизации местных сообществ и их связи с государством, политическим и территориальным союзом всего народа страны.
Как первичный уровень самоорганизации населения и публичной власти местное самоуправление — база формирования целей государственного управления. Народ — источник государственной власти; цели образующих его местных сообществ осмысливаются и интегрируются руководящими органами государства в единые, общегосударственные. Несоответствие целей государственного управления целям общества — условие возникновения хаоса. Местное самоуправление — не только сфера непосредственного или через своих представителей участия населения в управлении местными делами и государством, но также и сфера конечной реализации государственных решений и проявления их эффективности. Оно и сфера, где достигается сочетание индивидуальных, коллективно-групповых и общественных, региональных и общегосударственных интересов, на основе чего регулируются и разрешаются социально-политические и экономические, межнациональные, идеологические и межрелигиозные конфликты [1].
Повторим, что, согласно социологическим исследованиям, наибольший «очаг напряженности» в местных сообществах связан с различиями в доходах. Данное противоречие имеет определяющее значение по отношению к другим, в том числе к возникающим по политическим мотивам. В частности, «политическому противостоянию» большее значение придают в центре, чем на местах, где реальная жизнь не исключает этого различия, «но не до такой степени, чтобы отвергать позиции своих политических оппонентов и подозревать в злокозненных и непорядочных намерениях» [2].
Существенное условие выполнения местным самоуправлением объединяющей функции — организация его в соответствии с нормами, установленными Законом. Волюнтаризм при формировании муниципальных образований может создать ситуацию дезинтеграции и враждебных взаимоотношений между людьми, жившими в согласии до реформирования местной власти.
Существенно важна роль местного самоуправления в формировании и развитии гражданского общества, являющегося, с одной стороны, механизмом формирования и развития последнего, а с другой — его неотъемлемой и наиболее устойчивой частью, точнее говоря, его фундаментом. Все гражданские права и массовые виды активности, различные негосударственные проявления общественной жизни людей зарождаются и в конечном итоге реализуются в местных сообществах, образующих базу гражданского общества.
На современном этапе развития государственного управления и местного самоуправления в России, как справедливо отмечал в одном из своих выступлений Президент РФ В.В. Путин (на XIII расширенной Сессии Конгресса муниципальных образований РФ), местный уровень власти — это самый короткий и прямой путь к решению насущных, жизненно важных для граждан проблем. «И именно здесь мы обязаны наиболее эффективно реализовать конституционный принцип народовластия... Безусловно, роль местного самоуправления здесь становится ключевой. Ведь самоуправление в городах и поселках, демократия именно на местах издавна считается основой гражданственности и народовластия». И потому одной из самых приоритетных задач местной власти является налаживание постоянного и всестороннего взаимодействия с гражданами, обеспечение эффективности таких составляющих местного самоуправления как законодательная, финансовая, административная.
Ныне действующий Федеральный закон 1995 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», несмотря на сыгранную им большую положительную роль в возрождении и развитии в России местного самоуправления, оказался весьма несовершенным, не содержал законодательного регулирования механизма его реализации, не в полной мере учитывал специфику современного этапа развития российского общества и его исторические традиции. Попытки внести в него необходимые дополнения и изменения из-за их многочисленности оказались невозможными. В связи с этим в 2003 г. была разработана новая редакция Федерального закона (по сути дела новый закон) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№131-Ф3 от 6 октября 2003 г.), который вступает в действие с 1 января 2006 г., поскольку он предполагает принятие целого ряда новых федеральных законов и внесение огромного количества изменений в действующие федеральные и региональные законы, в том числе в Налоговый и Бюджетный кодексы.
Реализуемая ранее в стране концепция местного самоуправления суть нормативная, идеальная его модель. Реальное состояние пока далеко от нормативного, поскольку, во-первых, процесс формирования российского местного самоуправления еще не завершен, а, во-вторых, нынешняя нормативная модель, как показывает первый опыт ее реализации, не во всем соответствует специфическим условиям страны и, тем более, особенностям переходного периода государственного строительства, не говоря уже о реальном состоянии политической и правовой культуры большинства населения.
Социологи, изучающие состояние местного самоуправления, утверждают, что пока на разных уровнях власти (городской, районной, областной, республиканской) отсутствует полное понимание и осознание идеи местного самоуправления, большинство руководителей не видят его нового качества, которое утверждено в Конституции Российской Федерации.
Даже в тех случаях, когда политики всех уровней говорят о самоуправлении, оно по сути таковым не является, ибо этим термином обозначается реально существующая власть на местах. Властные органы в городах и районах по сути дела зачастую являются низовым звеном государственной власти и находятся в полной зависимости от вышестоящих органов власти, а не от населения, которое в условиях традиционного самоуправления избирает местное самоуправление и доверяет ему управлять местным сообществом на определенное время и в определенных, очерченных законом рамках полномочий. Существующая на местах власть в лучшем случае олицетворяет намерение превратиться в самоуправление [3].
Анализ материалов печати, коллективных обсуждений руководителями проблем местного самоуправления на семинарах и в других формах во многом подтверждает вывод ученых. В первом опыте выявляется множество трудностей объективного и субъективного плана. Однако следует иметь в виду, что «традиционная модель», принимаемая авторами за критерий оценки состояния местного самоуправления в России, — это по сути теоретическая модель. Она в полной мере не реализована даже в европейских странах, где местные органы самоуправления, как правило, находятся под определенным контролем государства.
Так, континентальная модель организации местного самоуправления (французская) состоит в том, что наряду с широкими правами и значительной самостоятельностью местных органов власти сохраняется определенная подчиненность муниципальных звеньев вышестоящим, а порою осуществляется и прямое государственное управление муниципальными образованиями [4]. И даже в англосаксонской модели, практикуемой Великобританией, США и др., где местные органы практически не подотчетны вышестоящим, это вовсе не означает, что они находятся вне контроля государства. Такой контроль осуществляется косвенно, т. е. через центральные министерства и ведомства [5].
Отождествление становящегося нового местного самоуправления с существовавшей ранее местной государственной властью вполне естественно. Тем более, что структурно эти формы публичной власти во многом идентичны (существуют в виде представительных и исполнительных органов), в некоторых регионах сохранились прежние их названия «советы». Было бы иллюзией думать, что стереотип жесткой централизации властеотношений исчезнет из политической культуры за короткое время. Для многих руководителей органов государственной власти местное самоуправление «как кость в горле». Формирование ее воспринимается как покушение на государственную власть, представляемую ими. Проявляется и противоположная тенденция: вновь организуемые органы местного самоуправления стремятся получить больше полномочий, не соразмеряя их с реальными материальными и кадровыми возможностями обеспечения, которыми располагает данное местное сообщество.
Единство трехуровневой организации публичной власти и системы управления: федерального, регионального (субъектов Федерации) и местного самоуправления, — взаимосвязь и преемственность в деятельности органов государственной власти и местного самоуправления — основное условие обеспечения управляемости государством и обществом. Более того, в этом заключается один из принципов действенности общегосударственной системы управления. Отсюда теоретическое и практическое значение анализа проблемы взаимодействия органов государственной власти с местным самоуправлением.
2. Направления и механизмы взаимодействия органов государственной власти с местным самоуправлением
Процесс реформирования местного самоуправления в России подходит к завершению. В ходе его определились наиболее важные направления и механизмы взаимодействия новой системы публичной власти с органами государственной власти и общегосударственной системой управления. Выявились проблемы становления взаимодействия, которые предстоит решать в процессе развития местного самоуправления. Они отражены в «Основных положениях государственной политики в области развития местного самоуправления в Российской Федерации», в Федеральном законе от 6 октября 2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», вступающем в действие с 1 января 2006 г., а также просматриваются в законодательстве субъектов Федерации, высказываются их руководителями. Причем некоторые подчеркивают, что совершенствование механизма взаимоотношений органов региональной и муниципальной власти — важнейшее направление повышения эффективности государственного управления [6]. Имеются в.виду две группы проблем. Первая группа — это проблемы по обеспечению государством развития полноценного, эффективно действующего местного самоуправления как фундамента народовластия. Речь идет о создании необходимых политических, нормативно-правовых, организационных, финансово-экономических и административно-управленческих условий для претворения в жизнь конституционных принципов местного самоуправления как самостоятельного звена единой системы власти и управления в государстве, без которого исключалось бы функционирование этой системы. Вторая группа проблем связана с обеспечением единства местного самоуправления с системой государственной власти и управления, его ответственности перед государством и населением территорий. Это — вопросы сохранения и укрепления вертикали власти и управления государством — федеральной, региональной, местной.
Решение обеих групп проблем составляет содержание государственной политики в области развития местного самоуправления. Одним из принципов ее формирования и реализации признается «взаимодействие и сотрудничество федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления». Поле взаимодействия государственных органов власти и органов местного самоуправления весьма широкое. Оно охватывает совместную деятельность по завершению организации органов местного самоуправления и по созданию условий для реализации ими своих конституционных полномочий, включает весь комплекс вопросов, связанных с созданием условий для участия органов местного самоуправления наряду с органами государственной власти в обеспечении прав граждан на жилье, на охрану здоровья и оказание медицинской помощи, на общедоступное образование в муниципальных учреждениях.
Сотрудничество государственных органов власти с органами местного самоуправления необходимо и при разработке правил обеспечения реализации отдельных государственных полномочий, передаваемых органам местного самоуправления; при установлении минимальных государственных социальных стандартов, осуществление которых важно для развития человеческого потенциала территорий и местных сообществ и др. На нынешнем же этапе развития местного самоуправления на первом плане остаются проблемы обеспечения условий для развития эффективно действующих органов местного самоуправления. Причем в настоящее время было бы некорректно подчеркивать большую значимость, например, нормативно-правовых условий по сравнению с организационными, последних — с финансово-экономическими и т.д. Все они важны для полноценной деятельности местного самоуправления. Тем не менее, решение организационно-правовых проблем пока является процессом, требующим значительного внимания со стороны государственных органов субъектов РФ и участия местных сообществ.
В первую очередь речь идет о необходимости более полного правового обеспечения становления местного самоуправления, а также преодоления внутренней несогласованности противоречивости правовых актов Российской Федерации и ее субъектов, регулирующих организацию и деятельность местной власти и ее взаимоотношение с государственными органами. Так, требуется четкое правовое разграничение полномочий между органами государственной власти (федеральными и региональными) и органами местного самоуправления. Отсутствие такового препятствует решению вопросов собственно местного значения и реализации конституционной нормы возможности делегирования муниципалитетам некоторых полномочий государственных органов [7].
Нуждается в нормативно-правовой конкретизации конституционная установка об исключении местного самоуправления из системы органов государственной власти. В частности — установление принципов взаимоотношений первичного уровня управления общественными и государственными делами с региональным и федеральным уровнями.
Неполнота законодательной базы местного самоуправления особенно ощущается на уровне субъектов Федерации. Широкий процесс формирования региональной законодательной базы по вопросам местного самоуправления, идущий во многих субъектах Федерации, не закрывает того факта, что в ряде субъектов РФ так и не приняты базовые законы об основах местного самоуправления. А если они и существуют, то в них зачастую нечетко определены критерии определения муниципальных образований в соответствии с требованиями Федерального закона. Не завершено их формирование. Не везде законодательно закреплен порядок передачи объектов государственной собственности в муниципальную собственность и управления ею.
Противоречивость законодательных актов Российской Федерации и субъектов РФ — также бесспорный факт. В Федеральном законе об основах местного самоуправления и других актах, принятых субъектами Федерации, содержатся зачастую не только различные, но и противоположные установления. В законодательстве субъектов Северного Кавказа, к примеру, прослеживается тенденция поставить местное самоуправление в зависимость в различных формах от органов государственной власти, превратить его в элемент только государственного управления вопреки конституционному положению о самодостаточности местного самоуправление в пределах своих полномочий. Неоднозначно определяются виды территориальных сообществ при организации органов местного самоуправления. Так, в Республике Адыгея, в отличие от многих других субъектов Федерации, Конституцией закреплено, что в районах и городах республиканского значения действует государственная власть. «В целях сохранения и укрепления вертикали исполнительной власти, — аргументировал свою позицию А.А. Джаримов, в то время являвшийся Президентом Республики Адыгея, — издан указ о наделении глав администрации городов и районов полномочиями представителя Президента Республика Адыгея на своих территориях» [8]. Местное самоуправление в республике осуществляется в сельских поселениях, микрорайонах и на других территориях в форме прямого волеизъявления, а также через избираемые органы местного самоуправления. При этом противоречие в организации местного самоуправления в Республике Адыгея с федеральным законодательством объяснялось тем, что функционирующая форма организации существовала в течение двух лет до принятия конституции республики и показала свою действенность и эффективность. Позднее конституции республики был принят Федеральный закон «Об общих принципах организации самоуправления в Российской Федерации»^].
Вопреки части 3 статьи 17 действующего Федерального закона, препятствующей участию органов государственной власти и их должностных лиц в образовании органов местного самоуправления и назначении его должностных лиц, закон «О местном самоуправлении в республике Дагестан» предоставляет право инициативы в выдвижении кандидатуры на должность главы администрации района, города не только избирателям, представительным органам местного самоуправления, но и органам государственной власти. В соответствии с законом «О местном самоуправлении в Кабардино-Балкарской Республике» глава местного самоуправления — должностное лицо, совмещающее должности председателя Совета и главы местной администрации.
Это означает, что глава местного самоуправления входит в вертикаль исполнительной власти, что создает реальную возможность постоянного контроля за его деятельностью со стороны органов государственной власти данного субъекта РФ.
Законодательные акты субъектов Российской Федерации на Северном Кавказе, регламентирующие процессы организации местного самоуправления, отражают борьбу двух концепций. Одна из них формулируется в тезисе о местном самоуправлении как продолжении государственной власти на местах. Согласно другой — местное самоуправление представляется в виде самоорганизации населения, при которой органы самоуправления не входят в систему государственной власти. В целом в регионе доминирует первая концепция: органы местного самоуправления по существу остались нижним звеном государственной власти (вне зависимости от способа их формирования) [10].
Отмеченные противоположные представления проявляются и в других регионах страны. Так, в уставе Курской области устанавливается, что «органами исполнительной государственной власти административно-территориальной единицы (района) являются администрация района, сельские и поселковые администрации, входящие в единую систему органов исполнительной государственной власти Курской области». Уставом определяется также, что «сельские, поселковые администрации создаются в тех населенных пунктах, где население самостоятельно и добровольно отказалось от своего права на организацию местного самоуправления...» [11]. В нововведениях курских властей просматривается явное противоречие с конституционными нормами организации местного самоуправления.
В субъектах Федерации имеет место и иная тенденция — стремление преодолеть наметившийся разрыв между государственной властью и местным самоуправлением, закрепленный в действующем Федеральном законе «Об основах местного самоуправления в Российской Федерации», путем создания в некоторых районах и городах территориальных государственных администраций. В частности, в Ставропольском крае вместо районных и ряда городских администраций муниципальных образований созданы районные государственные администрации (в 23 сельских районах), а в городах краевого значения — территориальные государственные администрации. В этих образованиях главы администраций назначаются губернатором края; им же утверждается структура и штатное расписание администраций [12]. Двойственная форма организации самоуправления и управления в муниципальных образованиях объясняется руководством края сложной социально-экономической обстановкой, расположением края в приграничной зоне, отсутствием у абсолютного большинства муниципальных образований своих бюджетов, а также мнением сельского населения.
Близкий к ставропольскому путь соединения централизованной государственной власти и управления с муниципальным управлением (местным самоуправлением) в своей модификации избрали руководства Свердловской и Новосибирской областей. В выступлении губернатора Свердловской области Э.Э. Росселя на зональном семинаре-совещании руководителей законодательных собраний субъектов Федерации (июнь 1999 г.) было отмечено, что результатом установленного Конституцией РФ обособления органов местного самоуправления от системы органов государственной власти явилось отдаление органов последней от населения, с одной стороны, и отдаление органов местного самоуправления от государственных полномочий — с другой. Опыт показывает, что выполнение государственных полномочий органами местного самоуправления затрудняется в связи с тем, что им прежде всего приходится решать вопросы местного значения. Кроме того, в условиях финансово-экономического кризиса и отсутствия необходимых средств решения органов местного самоуправления не подкрепляются никакими ресурсами. Да и контроль за расходованием ими бюджетных средств не предусмотрен. С целью выхода из сложившейся ситуации в Свердловской области разработан и принят закон «Об исполнительных органах государственной власти в Свердловской области», согласно которому созданы территориальные органы государственной власти области — управленческие округа. Новые органы не устраняют органы местного самоуправления на уровне районного звена, а, по замыслу законодателя, позволяют государственным органам больше приблизиться к населению и эффективнее взаимодействовать с местным самоуправлением. Осуществляемая система сближения власти с населением, с точки зрения руководства области, более конструктивна, чем заложенная в концепции местного самоуправления [13].
В Новосибирской области также были созданы территориальные органы государственной власти в крупных административно-территориальных единицах в качестве среднего звена централизованного управления. При этом областной Совет депутатов и областная администрация наделены правом контроля за территориальными администрациями. В свою очередь последние могут контролировать органы местного самоуправления (муниципальные образования), сформированные в более мелких территориальных единицах. В Новосибирской области существуют две сферы управления: сфера государственного управления (под руководством главы областной администрации), распространяющаяся на территорию районов и городов областного значения, и сфера муниципального управления на территории Новосибирска (под руководством мэра города) [14]. Закон «О местном самоуправлении в Новосибирской области» ограничил перечень территорий, на которых осуществляется местное самоуправление. Это города Новосибирск, районного значения, поссоветы, сельские советы, села и поселки. Города областного значения и районы области не вошли в число таковых территорий. Характерен факт: прокурор области опротестовал определение Законом перечня территорий, где организуются органы местного самоуправления. Однако суды, рассматривавшие прокурорский протест, включая Верховный Суд РФ, оставили в силе соответствующие пункты областного закона. Согласно Федеральному закону субъекты Федерации вправе самостоятельно определять территории, на которых формируются органы местного самоуправления.
Таким образом, в рамках, установленных Конституцией РФ и действующим с 1995 г. Федеральным законом ключевых принципов местного самоуправления: самостоятельности, отделения от органов государственной власти, выборности, подотчетности населению и др., наблюдается широкое многообразие подходов, путей и форм организации нового института народовластия в различных субъектах Федерация. Одним только правовым нигилизмом, присущим российскому чиновничеству, объяснить этот процесс нельзя. Его детерминируют многие факторы. Главным, на наш взгляд, является установленное законодательством жесткое обособление органов местного самоуправления (муниципального управления) от органов государственной власти и управления. Оказалась подорванной вертикаль, выраженная в общей системе управления государством (обществом) тремя взаимосвязанными уровнями публичной власти и управления: федеральным, региональным и муниципальным. В условиях переходного периода нарушение данной управленческой вертикали и единства уровней публичной власти может привести к непредсказуемым последствиям. Вероятность таковых возрастает в полиэтнических регионах, таких как Северный Кавказ. Поэтому отчасти можно понять руководителей республик Северного Кавказа, призывающих власти Центра не абсолютизировать роль местного самоуправления и стремящихся параллельно (организацией органов местного самоуправления укреплять и даже расширять сферу действия органов государственной власти. Баланс интересов различных этнических групп, совместно проживающих на одной и той же территории, местным органам порою поддерживать труднее, чем государственным.
По-видимому, прав Р.Г. Абдулатипов, рекомендующий предоставлять право населению самому выбирать, какая форма управления территорией — государственная или самоуправления — ему подходит больше, будет эффективней защищать его права, свободы граждан и национальностей, выражать их интересы [15].
Немаловажным фактором, обусловливающим поиски каких-то промежуточных форм организации власти и управления между государственными структурами и местным самоуправлением, служит укоренившаяся в политическое сознание традиция авторитаризма, отсутствие у населения достаточного опыта участия в управлении своими делами. Однако более существенным препятствием для становления подлинного местного самоуправления является его фактическая финансово-экономическая необеспеченность.
Местная власть, каким бы формальным статусом ни обладала, какими бы полномочиями ни была наделена, не станет реальной самостоятельно управляющей властью, если она не располагает необходимыми материально-финансовыми ресурсами. Это еще одна, не менее важная, по сравнению с рассмотренными, проблема приложения как усилий государственных органов субъектов Федерации, так и активности органов местного самоуправления. Законодательно данная проблема решена. В действующем и новом Федеральных законах определены финансово-экономические основы местного самоуправления. К ним отнесены муниципальная собственность, местные финансы, имущество, находящееся в государственной собственности и переданное в управление органам местного самоуправления, а также иная собственность, служащая удовлетворению потребностей.
Муниципальная собственность включает в себя средства местного бюджета, муниципальные внебюджетные фонды, имущество органов местного самоуправления, муниципальные земли и другие природные ресурсы, муниципальные предприятия и организации, муниципальные банки и другие финансово-кредитные организации, муниципальный жилищный фонд и нежилые помещения, муниципальные учреждения образования, здравоохранения, культуры и спорта, другое движимое и недвижимое имущество.
Законы определяют, что органы местного самоуправления самостоятельно управляют собственностью: им разрешается передавать объекты этой собственности во временное или постоянное пользование физическим и юридическим лицам, сдавать в аренду, совершать сделки с имуществом и т.д. Законы предусматривают также, что порядок и условия приватизации муниципальной собственности определяются населением непосредственно или представительными органами местного самоуправления самостоятельно.
Включены в законы и основополагающие нормы о правах органов местного самоуправления в отношении предприятий, учреждений и организаций, находящихся как в муниципальной, так и в немуниципальной собственности. Органы местного самоуправления определяют цели, условия и порядок деятельности предприятий, учреждений и организаций муниципальной собственности, осуществляют регулирование цен и тарифов на продукцию (услуги), утверждают их уставы, назначают и увольняют их руководителей, заслушивают отчеты об их деятельности (ст. 31 действующего Закона).
Отношения же органов местного самоуправления (по вопросам, не входящим в их компетенцию) с предприятиями, учреждениями и организациями, не находящимися в муниципальной собственности, а также с физическими лицами строятся на основе договоров. При этом действующий Закон восстановил столь необходимое и важное право органов местного самоуправления координировать участие предприятий, учреждений и организаций в комплексном социально-экономическом развитии территории муниципального образования (ст. 32, ч. 2). В соответствии со ст. 33 Закона органы местного самоуправления вправе давать муниципальный заказ тем или иным предприятиям, учреждениям и организациям на выполнение различных работ и услуг с использованием для этого собственных материальных и финансовых средств.
Закон определяет также порядок формирования и источники доходов местных бюджетов, самостоятельность органов местного самоуправления в распоряжении средствами местных бюджетов, предоставляет им довольно широкие возможности финансово-хозяйственной деятельности, решения местных вопросов. Насколько это важно, весьма мудро и образно сказал известный историк конца XIX в. А.Д. Градовский. Основываясь на опыте государства Российского, он писал: «Местность останется без путей сообщения, если проведение и даже исправление всякой дороги будет зависеть от отдаленной центральной власти. Она останется без средств борьбы с различными бедствиями».
Нормы Федерального закона, определившего финансово-экономические основы местного самоуправления, предстоит еще реализовать. В настоящее время — это одна из наиболее трудно решаемых проблем. Не решив ее, не обеспечив материальную независимость местных обществ от региональных и федеральных властей, бессмысленно говорить о реальном самоуправлении этих обществ. Если, скажем, в Новосибирской области только Новосибирск, обладающий статусом муниципального образования, не является дотационным, а 70—90% других муниципалитетов сидят на дотационной «игле» областной администрации, то о какой же их самостоятельности и независимости от органов государственной власти может идти речь?
Положение муниципальных образований Новосибирской области не исключение. В Ставропольском крае лишь отдельные муниципальные образования положительно решают вопросы формирования бюджетов и установления местных налогов и сборов. Поэтому участники двух круглых столов, состоявшихся в городах Пятигорске и Ессентуках в 1999 г. по проблеме становления местного самоуправления, взаимоотношений органов государственной власти и местного самоуправления в Ставропольском крае, предложили Государственной Думе края создать финансово-экономическую основу, направленную на самообеспеченность местного самоуправления, самодостаточность бюджета муниципального образования [16].
Проблема обеспечения финансово-экономической самостоятельности муниципальных образований, включающая в себя большой комплекс вопросов, которые должны быть решены как на государственном, так и на муниципальном уровнях власти особо выделена как общероссийская в «Основных направлениях государственной политики в области развития местного самоуправления в Российской Федерации» и новом Федеральном законе от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
В 2000-2003 гг. в стране была проделана большая работа по изучению проблем реализации действующего с 1995 г. Федерального закона об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации и аналогичных законов субъектов РФ, по поиску путей преобразования собственного опыта, формирования новых действенных механизмов развития местного самоуправления, по разбору «завалов» в сфере законодательства, определения прав и обязанностей муниципалитетов, решения вопросов эффективного использования их собственности и финансовой обеспеченности, путей избавления от длительного противостояния местных, региональных и федеральных властей.
Во многом результатом этих поисков и стал обновленный закон об общих принципах организации местного самоуправления в РФ. Как отмечает Президент РФ В.В. Путин [17], нашим стратегическим ориентиром и десять лет назад, и сегодня остается сильная и дееспособная местная власть. Обновленный закон об общих принципах местного самоуправления направлен на децентрализацию власти там, где это необходимо, и уточнение ее ответственности перед народом, на то, чтобы сделать жизнь более предсказуемой и обеспеченной. Но для реализации обновленных принципов федерализма и местного самоуправления предстоит в ближайшее время внести в федеральные законы поправки, которые устранят необеспеченные финансовые обязательства региональных и местных бюджетов, принять меры, связанные с разграничением государственной и муниципальной собственности, окончательно урегулировать многие другие остающиеся противоречия.
Рассматривая актуальные проблемы реализации нового Федерального закона о местном самоуправлении, В.В. Путин выделяет следующие наиболее очевидные приоритеты:
1.Чтобы закон эффективно заработал, необходимо в кратчайшие сроки в полном объеме привести в соответствие с ним федеральное и региональное законодательство, уставы и иные нормативные акты муниципальных образований.
2.Предстоит решить вопросы по границам и статусу МО, структурам органов МСУ.
3.Пополнение местных бюджетов вопрос сложный и болезненный. Слишком долго длилось время так называемых «повышенных» обязательств при практически пустом кармане МО, главное - при невозможности наполнить этот карман самостоятельно. Но и здесь уже предприняты шаги, которые должны изменить ситуацию.
Правительство внесло в Думу поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы, главный смысл поправок в том, чтобы у муниципалитетов появились стимулы расширять собственную налоговую базу.
Малый и средний бизнес, сфера инноваций и услуг могут стать решающими для развития внутреннего рынка и экономического роста в стране в целом.
Финансовая устойчивость и эффективность работы муниципалитетов прямо связаны с активизацией хозяйственной жизни на местах, во многом зависят от умения местных руководителей грамотно и рачительно хозяйствовать, от готовности снимать административные барьеры, открывать рынок не только для предпринимателей своего региона, но и для всех, кто хочет реализовать свою деловую инициативу.
4. Важно повысить роль и значение представительных органов, развивать принципы коллегиальности и контрольные механизмы с участием граждан. Без такой обратной связи с избирателями по-настоящему сильное, независимое и эффективное МСУ не состоится.
5. Масштаб задач, стоящих сейчас перед местным самоуправлением, требует кардинального повышения квалификации муниципальных служащих. И потому необходимо создать адекватную потребностям дня систему подготовки и переподготовки кадров этого уровня.
Органы местного самоуправления смогут эффективно выполнять стоящие перед ними задачи при условии обеспеченности их квалифицированными кадрами. Дефицит кадров юристов, экономистов, менеджеров в муниципальных образованиях, нехватка муниципальных служащих, отсутствие систематического обучения выборных лиц местного самоуправления — пожалуй, важнейшая из всех проблема, от решения которой зависит и реализация полномочий новых органов народовластия, и законность их деятельности, и, наконец, превращение их в реальный фундамент подлинной демократии. Но решать ее возможно только совместными усилиями органов государственной власти и местного самоуправления. Некоторые авторы с негативным подтекстом вспоминают известный с советских времен лозунг: «Кадры решают все». Однако он не утратил своей актуальности для государственного управления, а тем более — местного самоуправления.
Анализ кадрового потенциала многочисленных структур местного самоуправления в некоторых регионах подтверждает остроту проблемы. Так, проведенный в 2002 г. с нашим участием опрос 305 муниципальных служащих в субъектах РФ на территории ЮФО, показал, что 10% их имеют среднее образование, 4% незаконченное высшее, 86% — высшее образование. По типу же базового высшего образования они распределяются так: по специальности «государственное и муниципальное управление» — только 7,2%, гуманитарное высшее имеют 31,5%, техническое -26%, естественнонаучное — 6%, по нескольким специальностям -14,5% [18].
Стоит ли доказывать несоответствие профессионального образования подавляющего большинства глав муниципальных образований характеру выполняемой ими работы. Напомним, что в числе причин, приведших к поражению советской системы государственного управления, было игнорирование правящей партией необходимости профессиональной (управленческой) подготовки руководящих кадров и корпуса госслужащих. Не следует наступать дважды «на одни и те же грабли».
В стране создана система учебных заведений по подготовке и переподготовке профессионалов государственного и муниципального управления (академии государственной службы и их филиалы в регионах). Ее нужно использовать и для преодоления кадрового дефицита в системе местного самоуправления. Нынешнюю ситуацию невозможно преодолеть за короткий период. Поэтому при формировании новых муниципальных образований следовало бы учитывать такое существенное условие, как наличие хотя бы минимума потенциала подготовленных к управляющий деятельности лиц.
Широкий круг вопросов для совместного решения государственными органами власти и самоуправления связан с обеспечением единства трех уровней публичной власти и субъектов управления. Ведь объектом управляющего воздействия каждого из них являются те или иные стороны жизнедеятельности местных обществ, группы интересов одних и тех же общностей людей, живущих на одной территории (общегосударственных, региональных и коллективных — местных). Разобщенность в деятельности властей различных уровней прежде всего вредна для местных обществ, ибо порождает межведомственную конкуренцию чиновников и блокирует возможности рационального управления местными делами. Опасна такая разобщенность и для государства, поскольку в конечном итоге питает тенденцию раскола в обществе, вызывает неуправляемые процессы, подрывает общегосударственную систему власти и управления.
Местное самоуправление несет в себе значительные демократические, объединительные и социально-активизирующие возможности. Его развитие имеет исключительно важное значение не только потому, что позволяет создать условия для более активного и инициативного решения местных проблем, обеспечения нормальной повседневной жизни людей. Оно жизненно важно для нашей страны также потому, что связано и с укреплением государственной целостности Российской Федерации. Местные сообщества объективно лишены стремления к ослаблению единой государственности, к образованию удельных княжеств. И прежде всего потому, что уровень социальных стандартов (показателей качества жизни населения) зависит от экономического могущества всей страны. Их не в силах обеспечить самостоятельно выделившийся из Федерации регион. Печальный пример Чечни убеждает в этом здравомыслящих людей.
Тем не менее, нельзя недооценивать и потенциал дезинтеграции, в рамках субъектов Федерации заложенный в нынешней системе формирования и деятельности местного самоуправления.
О такой тенденции говорил на зональном семинаре-совещании руководителей законодательных собраний субъектов РФ в Свердловской области губернатор Э.Э. Россель. Идентичную мысль подчеркивали участники «круглых столов» на Ставрополье, в частности губернатор А.Л. Черногоров, выразив ее в известном афоризме — «Мой дом — моя крепость». Ее же высказывают ученые Северо-Кавказской академии госслужбы. Демократическая норма, закрепленная Конституцией РФ, согласно которой изменение границ территорий, на которых осуществляется местное самоуправление, допускается с учетом мнения населения, может сыграть в полиэтнических районах прямо противоположную роль — ориентировать на разделение территорий в интересах определенных политических и национальных движений и тем самым претендовать на пересмотр внутриреспубликанских территориальных границ, что чревато межнациональными конфликтами. Опасность возникновения муниципального сепаратизма отмечают и другие авторы, анализирующие взаимодействие местного самоуправления с органами государственной власти. Муниципальные органы власти нередко пытаются противопоставить закрепленный в Конституции третий уровень регионального управления всем остальным. Объясняют это тем, что Основной Закон выделил их в самостоятельный уровень власти [19]. Многие выступающие в печати руководители регионов акцентируют ненормальность ситуации, когда муниципальные органы практически бесконтрольны. Законодательно не предусмотрены отчетность и ответственность за расходованием бюджетных средств; не реализован принцип подотчетности муниципальных органов населению; не установлен механизм контроля деятельности муниципалитетов со стороны государства и т.д. Здесь уместно вспомнить следующее положение, содержащееся в одном из выступлений Президента РФ В.В. Путина: «Только квалифицированная и ответственная, обеспеченная ресурсами и прозрачная местная власть сможет достойно решать проблемы граждан» [20].
Реальное проявление дезинтеграционного влияния муниципальных органов на общую систему публичной власти и управления государством придает проблематике обеспечения единства низового уровня системы с региональным и федеральным уровнями не меньшее значение, чем становлению местного самоуправления. Без единства всех уровней власти и управления, без обеспечения общегосударственной управленческой вертикали не может быть и целостного рационально управляемого государства, равно как не может быть и демократически построенного государства без сочетания централизма с широкой децентрализацией власти и управления, с предоставлением всех необходимых полномочий региональным властям и органам местного самоуправления для решения проблем соответствующего уровня.
Данная проблематика находится в центре внимания законодательных и исполнительных органов государства и субъектов Федерации. В отдельных региональных законах о местном самоуправлении включены специальные статьи, устанавливающие нормы взаимоотношений органов местного самоуправления с органами государственной власти. Целесообразно было бы, конечно, принятие единого законодательного акта России, поскольку речь идет о принципиально новом виде политико-правовых отношений, регулирование которых играет весьма существенную роль в дальнейшем реформировании государства.
Попытаемся обозначить некоторые механизмы политического и нормативно-правового регулирования местного уровня органов власти и управления, складывающиеся в опыте субъектов Федерации.
Прежде всего, следует подчеркнуть, что органы местного самоуправления, отдаленные от системы государственной власти в структурно-организационном плане, действуют на едином с ней политико-правовом поле и в общем экономическом и информационном пространстве. Правовое регулирование местного самоуправления, создающее юридические гарантии самостоятельной деятельности в решении ими вопросов местного значения и вместе с тем определяющее правила взаимодействия с государственными органами, наделение соответствующей компетенцией и обеспечение деятельности государственных органов, занимающихся вопросами местного самоуправления, в том числе надзором за законностью их деятельности [21], составляет важнейший механизм политики развития местного самоуправления. Ни Конституцией РФ, ни Федеральным законом органы местного самоуправления не выведены за пределы общей системы управления государством как территориальной и политической формы организации общества. Решение органами местного самоуправления задач местного значения осуществляется (по крайней мере, должно осуществляться) в русле общегосударственной политики. Муниципальные органы наделяются отдельными государственными полномочиями с целью реализации этой политики. Они могут участвовать в осуществлении государственных программ. Контроль за их деятельностью вполне естественен и необходим.
По мнению губернатора Ростовской области В.Ф. Чуба, одним из условий наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями является возможность контроля со стороны государства за их реализацией. Такой контроль означает возможность соответствующих государственных органов давать указания органам местного самоуправления по поводу реализации переданных полномочий, оценивать принимаемые решения с точки зрения не только законности, но и целесообразности, а также отменять при необходимости такие решения или приостанавливать их [22].
Цели углубления взаимодействия служит обозначенная в законодательствах ряда субъектов РФ, расположенных в северокавказском регионе, правовая норма о временной передаче органами местного самоуправления в случае невозможности выполнения ими отдельных полномочий по решению вопросов местного значения на договорной основе вместе с необходимыми материальными и финансовыми ресурсами органам государственной власти. Но если отсутствие материальных и финансовых ресурсов является единственной причиной невыполнения отдельных полномочий по решению вопросов местного значения, органы государственной власти обязаны принять указанные полномочия без соответствующих ресурсов [23].
Принципиально важна норма, записанная в Законе Ставропольского края, утверждающая, что решения органов государственной власти края, принятые в пределах их компетенции, обязательны для органов местного самоуправления [24]. На наш взгляд, эта норма может быть общим правилом во взаимоотношениях Федерации с ее субъектами и субъектов — с органами местного самоуправления. По этой линии и выстраивается вертикаль управленческой исполнительной власти. В рамках исключительных полномочий Федерации решения ее органов обязательны для органов власти регионов, местного самоуправления, а в рамках полномочий субъектов — решения последних обязательны для местной власти. Она выражается в иерархической структуре построения системы публичной власти и управления государством, где нижестоящий уровень находится в отношении подчинения вышестоящему. Она же реализуется в иерархии законов: федеративные законы первенствуют над региональными и местными.
Понятия «подчинение», «нижестоящий», «вышестоящий» органы власти незаметно уходят из политического словаря российской правящей элиты как якобы элементы былого советского принципа «демократического централизма». Они заменяются понятиями «согласование», «взаимодействие», «сочетание» и пр. Нужно подчеркнуть, что данные понятия не тождественны. Те и другие обозначают разнокачественные властные и управленческие отношения, свойственные демократической системе государственного управления. Реформаторам политического языка не следует забывать, что государственная власть в сущности своей есть отношение господства и подчинения. Подчинение воле субъекта — носителя публичной местной власти членов местного сообщества — основной признак и этой власти. Понятия же «согласование», «взаимодействие», «сочетание» характеризуют взаимоотношения различных уровней власти и субъектов управления в поле предметов их совместного ведения или при реализации полномочий, относящихся к исключительной компетенции каждого из них.
Например, в числе принципов организации самоуправления в законе «О местном самоуправлении в Адыгее» указан принцип «сочетания интересов муниципальных образований с государственными интересами».
Государственные органы субъектов Федерации обеспечивают законодательное регулирование деятельности органов муниципальной власти и контроля за законностью ее решений, но без вмешательства в ее собственную компетенцию. К примеру, методом анализа постановлений и распоряжений, принятых главами муниципальных образований, и их юридической оценки соответствия действующему законодательству. Кстати говоря, в печати отмечался факт, что в России за два года прокурорскими проверками выявлено около 50 тыс. незаконных правовых актов органов местного самоуправления [25].
Важен контроль за тем, насколько полно органы местного самоуправления реализуют свои полномочия по решению вопросов местного значения, сочетающийся с помощью им. Такой опыт имеется у администрации Ростовской области. Он показывает, что многие полномочия муниципальными администрациями реализуются не полностью. По мнению руководства областной администрации, подобное явление объясняется недостаточным обменом опыта между органами местного самоуправления. Думается, что отмеченный пробел в деятельности муниципальных органов имеет место и в других регионах. Методы его преодоления разнообразны: регулярные семинары с различными категориями муниципальных служащих: стажировка служащих в областных или республиканских администрациях; консультирование муниципальных органов и т.д.
В целом методическая поддержка местного самоуправления органами государственной власти, а также подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров для местного самоуправления — составная часть механизма взаимодействия низового и регионального уровней публичной власти и управления и реализации государственной политики развития местного самоуправления. Методические мероприятия включаются в создаваемые субъектами РФ совместно с муниципальными властями координационные, совещательные и иные рабочие органы, как временно, так и постоянно действующие. В этом проявляется специфическая форма косвенного контроля за деятельностью местного самоуправления.
Из изложенного явствует, что у государственных органов (федеральных и региональных) по отношению к местному самоуправлению есть две главные задачи: а) обеспечить реализацию конституционных полномочий органов местного самоуправления и гарантии самостоятельной деятельности этих органов в пределах своих полномочий; б) осуществлять административный контроль, включая государственный надзор за законностью деятельности местного самоуправления и реализации переданных в законодательном порядке отдельных государственных полномочий. Решение той и другой задач исключает вмешательство государственных органов в деятельность местного самоуправления по осуществлению законом установленных их собственных полномочий, равно как и нарушение демократических принципов формирования и функционирования органов местной власти. Тем более это недопустимо со стороны Федерального Правительства по политическим мотивам. Однако в печати уже зафиксирован пример подобных антиконституционных действий. В частности, предложение Председателя Правительства СВ. Степашина (июль 1999 г.) губернаторам 36 приграничных субъектов РФ отказаться от выборов глав местного самоуправления и перейти к их «назначенству», чтобы не допустить на выборах в Государственную Думу голосования избирателей за «экстремистские партии» [26]. Конечно, подобные действия ничего общего не имеют с решением проблемы обеспечения управленческой вертикали как условия сохранения целостности государства и совершенствования демократических основ его управляемости.
Охарактеризованные нами направления и механизмы взаимодействия местного самоуправления и органов государственной власти практически реализуются через противоречия и конфликты, что признается многими руководителями субъектов Федерации, муниципальных образований, учеными и общественностью. «Конфликты между региональной и муниципальной ветвями власти являются болевой точкой для местного самоуправления» [27]. Поэтому целесообразно завершить настоящую работу анализом некоторых конфликтов и способов их регулирования и разрешения.
3. Регулирование и разрешение конфликтов во взаимоотношениях местного самоуправления и органов государственной власти
Конфликт — обычное явление в общественных отношениях между людьми, тем более в отношениях, связанных с властью и управлением. В этой сфере политической и социальной жизни всегда проявляются противоречия между интересами и целями властвующих и подвластных, управляющих и управляемых, развивающиеся в определенной ситуации до открытого и осознанного противоборства. Конфликт — это борьба общественных субъектов с целью реализации противоречивых интересов. Это — столкновение сил, в основе которого лежат претензии на определенный статус, власть и ресурсы. Данное определение отражает основные признаки конфликта, характерного для взаимоотношений местного самоуправления и государственных органов. В сфере этих взаимоотношений проявляются все отмеченные общесоциальные конфликтогенные факторы. В самом деле, коллективные интересы местного сообщества не всегда и не во всем могут совпадать с общими интересами региона, а тем более, государства, которые призваны выражать и отстаивать органы государственной власти. Например, в вопросах разделения муниципальной и государственной собственности. Противоречия между интересами возникают по поводу статуса, власти (полномочий) и ресурсов, определяемых государственными органами при формировании муниципальных образований. Правда, они не во всех случаях выливаются в открытый конфликт, что уже в основном зависит от позиций и взглядов руководства органов местного самоуправления и региональных властей. К тому же не всякое противоречие развивается в конфликт, а многие проявляются в виде споров, дискуссий, не разделяющих участников на противостоящие стороны.
Проблема статуса местного самоуправления превращается в источник противоречия и потенциального конфликта в ситуации, когда региональные органы государственной власти либо препятствуют обрести его тем местным сообществам, которые обладают правом на самоуправление, либо ограничивают сферу действия местного самоуправления. Согласно Федеральному Закону, все территориальные общности (города, села и пр.) обладают правом на приобретение статуса местного самоуправления. Однако в 1997 г. почти в 40 субъектах РФ территориями муниципальных образований, на которых осуществилось местное самоуправление, были только города и районы, а более мелкие территории таким статусом не обладали. Субъекты Федерации в данном случае Федеральный Закон не нарушали, ибо, как уже отмечалось, Закон разрешает самостоятельно определять территории, на которых формируются органы местного самоуправления. Следовательно, в самом Федеральном законе «Об общих принципах организации местного самоуправления» 1995 г. был заложен источник противоречий в процессе организации органов местного самоуправления.
В результате произвольного (с точки зрения теоретической) определения территориальных общностей, где организуются органы местного самоуправления, его сфера распространения сокращалась. По данным Центризбиркома России, за 1995—2000 гг. количество органов местного самоуправления уменьшилось в 3 раза.
Проблема определения территориальных общностей, которым придается статус местного самоуправления, таит в себе еще одно, пожалуй, более опасное социально-политическое противоречие, обремененное неизбежным конфликтом. Имеется в виду положение Федерального закона, предусматривающее возможность создания муниципальных образований на основе существующих административно-территориальных единиц (республик, областей, районов, городов и т.д.). Вместе с тем в действующем федеральном законодательстве не содержится четких ограничений при определении территориальных границ муниципальных образований. Приоритетное право по проблемам административно-территориального устройства и системы органов государственной власти субъектов РФ принадлежит им. Очевидно, что в регионах эти вопросы решаются и могут решаться по-разному [28]. Если учесть, что достаточно широко распространена точка зрения, согласно которой существующая система административно-территориального деления в своей основе была построена в конце 20-х— начале 30-х гг. в целях реализации планов строительства социализма в СССР, а цели и принципы местного самоуправления связаны с реализацией жизненных интересов и потребностей местного сообщества, что ареалы жизнедеятельности местных сообществ зачастую не совпадают с установленными ранее границами административно-территориальных единиц, то вполне реальна возможность возникновения стремления у крупных муниципальных образований в полиэтнических регионах заняться перекройкой существующих административно-территориальных границ, поначалу внутри субъектов РФ. Причем, как рекомендуют некоторые специалисты по национальной политике, обязательно с учетом национального фактора. По их мнению, это является необходимым условием при определении принципов территориальной организации местного самоуправления в Северо-Кавказском регионе. Можно себе представить, какая возникла бы Конфликтная ситуация в тех многонациональных районах, в которых стали бы реализовываться подобные рекомендации. Это как раз тот случай, о котором уже говорилось выше, когда демократическая норма, устанавливающая порядок изменения границ территорий, на которых осуществляется местное самоуправление с учетом мнения населения, превращается из фактора объединения людей в фактор, порождающий их противостояние, т.е. конфликт.
Статус субъектов местного самоуправления реализуется в совокупности властных полномочий, которыми они наделяются органами государственной власти. Объем властных полномочий — предмет острых противоречий и конфликтов между местными и региональными органами. Суть противоборства заключается, с одной стороны, в стремлении органов местного самоуправления приобрести больше полномочий (углубить децентрализацию власти), а с другой — в нежелании субъекта государственной власти делиться полномочиями, иначе говоря, упускать бразды централизованной власти из своих рук. Основная линия конфликта проходит на уровне «мэр — губернатор». По данным социологических опросов, почти треть респондентов (опрошенных граждан) указала на наличие в регионе негативного, а в ряде случаев даже агрессивного, взаимоотношения органов власти. Противостояние наблюдается с обеих сторон: «губернатор и мэр», «мэр и губернатор» [29]. Муниципальная власть нередко пытается противопоставить себя всем остальным органам власти, а субъект государственной власти всеми законными и незаконными средствами стремится сокрушить своего муниципального оппонента.
Второй уровень напряженности — между представительными и исполнительными органами власти — «мэр — городская Дума». Первая конфликтная линия в известной степени связана с субъективным фактором, в частности, с властными амбициями конфликтующих сторон. Однако главные причины возникновения конфликтных ситуаций обоих видов заключаются как в нечеткости разграничения полномочий органов местного самоуправления и государственной власти, так и, преимущественно, в дефиците материальных и финансовых ресурсов.
Противостояние органов местного самоуправления и субъекта Федерации может быть связано с выборами глав администраций муниципальных образований. Известно, что выборы органов власти, особенно исполнительной, являясь демократической формой волеизъявления граждан, вместе с тем представляют момент острой борьбы кандидатов на руководящие посты. Без борьбы не проходят и муниципальные выборы. Нередко в нее включаются и региональные органы власти. Правда, косвенно, рекомендуя тех или иных кандидатов на должности глав администраций муниципалитетов, хотя таким полномочием региональная власть не наделена. Вмешательство органов власти субъекта Федерации в процесс муниципальных выборов или необеспеченность законности их проведения неизбежно порождают конфликты, приобретающие даже политическую окраску. В подобных ситуациях актуализируются оба уровня напряженности между местным самоуправлением и региональными органами государственной власти: «губернатор — глава муниципальной администрации» и «глава муниципальной администрации — областная (городская) Дума». К сожалению, есть немало примеров таких форм взаимоотношений между двумя уровнями публичной власти, которые компрометируют концепцию организации муниципального управления, да и государственные институты, включая федеральные.
Проблема распределения ресурсов не менее конфликтогенна, чем борьба за полномочия и должности на муниципальном Олимпе власти. Власть — это обладание определенными материально-финансовыми, социальными, информационными и прочими ресурсами. Для органов местного самоуправления ресурсы — это прежде всего объекты муниципальной собственности и бюджетное обеспечение. В условиях нынешнего финансово-экономического кризиса любому субъекту Федерации трудно найти такое решение вопросов разделения муниципальной и государственной собственности, а также бюджетного финансирования муниципальных образований, которое обеспечивало бы баланс интересов. Противоречия и конфликты неизбежны. Задача руководителей того и другого уровней власти — не доводить их до высшего накала.
Итак, конфликтогенные узлы во взаимоотношениях органов мастного самоуправления и государственной власти определены. Это: борьба местных сообществ за статус местного самоуправления, противоречия, возникающие между властями по поводу определения границ местных сообществ, на территории которых организуются органы местного самоуправления; противоположные стремления органов местной и государственной властей при разграничении властных полномочий; поле выборов властей; борьба органов местного самоуправления за обладание материально-финансовыми ресурсами, необходимыми для реализации своих законодательством установленных полномочий по решению вопросов местного значения.
Возникает вопрос, как следует относиться к конфликтам, возникающим между органами местного самоуправления и государственной региональной властью? В основном негативно, поскольку конфликты мешают конструктивно взаимодействовать муниципальным органам и институтам государства в лице субъектов Федерации в решении многочисленных сложных задач по рациональному управлению государством. Тем не менее, в конфликтах есть и позитивный потенциал. Возникновение конкретного конфликта сигнализирует о наличии конкретной проблемы, требующей своего решения; необходимость преодоления данного конфликта стимулирует активность как субъектов местного самоуправления, так и государственной власти; наконец, преодоление того или иного конфликта всегда означает какой-то шаг вперед. Сказанное отнюдь нельзя понимать в смысле оправдания любых конфликтов. В анализируемой нами сфере общественных отношений негативная сторона влияния конфликтов на общественно-политический и управленческий процесс доминирует над позитивной. Разрушительные последствия конфликта оказываются в большинстве случаев более значительными, чем их роль в качестве фактора, стимулирующего конструктивную деятельность конфликтующих сил. Отсюда вытекает актуальность вопроса о способах регулирования и разрешения конфликтов, проявляющихся во взаимоотношениях органов местного самоуправления и государственной власти субъектов Федерации.
В начале поясним целесообразность использования в контексте нашего анализа двух понятий: «регулирование конфликта» и «разрешение конфликта». Мы показали, что во взаимоотношениях местного самоуправления и региональных органов власти могут возникать конфликты различного содержания и на разных уровнях взаимодействия управляющих субъектов. Некоторые из них перманентно воспроизводятся до тех пор, пока существуют детерминирующие их факторы. В таких случаях реализуется тактика регулирования конфликта — введение его в рамки установленных норм, а также действий с целью смягчения, ослабления или перевода конфликта в другое русло и на другой уровень отношений. Регулирование конфликта позволяет ограничить его негативное влияние на взаимоотношения органов местного самоуправления и субъектов государственной власти и перевести в общественно приемлемые формы развития и разрешения. Регулируемый конфликт — это значит управляемый, контролируемый и предсказуемый. Иными словами, — это конфликтный процесс, которому мы придаем формы, позволяющие обеспечить минимизацию экономических, политических, нравственных и др. потерь и, наоборот, максимизировать такого же рода приобретения.
Регулирование конфликта еще не есть его разрешение, поскольку сохраняются основные структурные компоненты конфликта. Однако действия по регулированию составляют либо предпосылки разрешения конфликта, либо моменты этого процесса. Разрешение конфликта означает его завершение в разнообразных формах: прекращение конфликта путем уничтожения одной из сторон или ее полного подчинения другой; преобразования обеих противоборствующих сторон на новой основе; взаимного примирения конфликтующих агентов при согласовании их интересов. Процесс разрешения конфликта описывается и в таких понятиях: «победитель-побежденный», «победитель-победитель», «побежденный-побежденный».
В анализируемой нами сфере общественно-политических отношений отмеченные модели разрешения конфликтов применимы с существенными оговорками. В данном случае можно лишь условно говорить о «победителе» и «побежденном». Ведь соперниками выступают субъекты двух уровней единой системы публичной власти. Хотя они обладают собственными полномочиями, но управляют различными сторонами жизнедеятельности одних и тех же сообществ людей. Поэтому о результатах регулирования и разрешения конфликтов корректней судить с точки зрения интересов как самих конфликтующих агентов, так и прежде всего — сообществ, обслуживаемых органами местных и региональных властей. Более или менее адекватно отражают процесс понятия: «выигрыш — проигрыш», «взаимный выигрыш — взаимный проигрыш».
Многообразие конфликтов (по поводу статуса местных органов самоуправления, границ муниципальных образований, объема власти полномочий, материально-финансовых ресурсов и др.) не исключает наличие некоторых общих признаков процессов их регулирования и разрешения. К таковым относятся: а) условия (предпосылки) преодоления конфликта; б) принципы разрешения конфликта; в) модели и стили разрешения конфликта; г) методы регулирования и преодоления конфликта.
Непременное условие (предпосылка) преодоления проявившегося конфликта — его признание и объяснение причины. Признать реальность конфликта — значит сделать шаг на пути к его объективному объяснению. Первые трудности в урегулировании и разрешении конфликта начинаются именно с этого пункта. Конфликтующие стороны в большинстве случаев объясняют ситуацию по-разному, исходя из своих интересов. Каждая пытается искать причину в поведении другой. Валить, как говорится, вину с больной головы на здоровую. Нередко вносят путаницу в понимание причин конфликта аналитики. Например, конфликтный характер становления местного самоуправления связывают исключительно с нежеланием органов региональной государственной власти расширять границы действия муниципалитетов и их полномочий. Другой аспект взаимоотношений, питающий конфликт, — отсутствие необходимых условий для реализации функций реального самоуправления — не принимается во внимание. Недооценивается конфликтогенность превратного толкования некоторыми деятелями местной власти демократии в смысле: «больше власти» местному самоуправлению.
Реальным источником конфликтов также являются: нарушение органами исполнительной власти субъекта РФ законодательства о местном самоуправлении; противоречивость законодательных актов субъекта РФ по отношению к федеральному законодательству; нечеткость критериев организации муниципальных органов самоуправления, что в каждом случае лишает граждан местных обществ права (или ограничивает это право) участвовать в осуществлении местного самоуправления. Описанный выше новосибирский конфликт, возникший по вопросу об организации муниципальных образований, — один из примеров коллизий подобного рода.
Объяснить конфликт — означает выявить его инициатора и других участников, предмет и причину конфликта, а также главную линию противоборства.
Признание и объективное объяснение конфликта позволяет определить правила поведения участников, отношение к конфликту третьего руководящего субъекта, решающего задачу преодоления конфликтной ситуации. Так, в случае противостояния, порожденного субъективными причинами (ошибочными решениями, амбициями должностных лиц, дезинформацией о положении дел в местном сообществе или в регионе и др.), тактика действия руководящего субъекта будет включать отмену ошибочного решения, обеспечение органов власти объективной информацией и принятие соответствующих административных мер воздействия на конфликтантов. Иное отношение к конфликту, развившемуся на основе объективных противоречий, связанных, скажем, с централизованной системой межбюджетных отношений, сохраняющейся в России по сей день. И, конечно же, совсем другая тактика его преодоления. Административные действия в этом случае решить проблему едва ли помогут.
Принципы разрешения конфликта. Основополагающим следует считать осуществление законодательного регулирования организации местного самоуправления и его взаимодействия с органами государственной власти субъектов Федерации. Последовательная реализация нормативно-правовой базы взаимоотношений низового звена системы публичной власти и управления с региональным, ее совершенствование в части устранения размытости полномочий между ними; обеспечение органов местного самоуправления необходимыми ресурсами для самостоятельной реализации своих полномочий и законный контроль за их деятельностью со стороны населения и государства — на этой основе предупреждаются конфликтные ситуации и преодолеваются возникшие очаги противостояния.
Коль скоро конфликт рождается из противоречия интересов муниципальных образований с государственными, то он может быть урегулирован и разрешен при условии достижения баланса интересов. Предпочтительнее даже — сочетания интересов. Принцип сочетания интересов муниципальных образований с государственными закреплен в законодательных актах некоторых субъектов Федерации в качестве нормы организации местного самоуправления. Вполне естественно признать его также одним из антиконфликтных принципов. Но «работать» он может только тогда, когда конфликтующие стороны адекватно понимают не только различия между местными и общими (региональными, государственными) интересами, но и главным образом — единство интересов. Или по крайней мере осознают зависимость реализации местных интересов от осуществления государственных.
Общим правилом преодоления конфликтов в конфликтологической науке признается наличие необходимых средств и ресурсов для осуществления этой цели: материально-экономических, социально-политических, информационных и пр. Не исключение и виды конфликтов, возникающие, как отмечалось, во многих случаях из-за дефицита ресурсов. Урегулировать и разрешить таковые, не снимая проблему ресурсов, невозможно.
Общеметодологическим принципом является требование конкретного подхода при определении тактики противоконфликтного действия, что обусловливается разнообразием конфликтов. Скажем, конфликты, возникающие на уровне: «губернатор - мэр» могут различаться в принципе. В одних случаях они преимущественно связаны с борьбой за власть в региональном центре. В других имеют политическую основу: между приверженными идее либерализма и отстаивающими позиции «народно-патриотических» сил. В третьих случаях конфликт развивается в сферу взаимоотношений губернатора, объявившего себя единственной властью в регионе, с Законодательным Собранием, и т.д. Тактика противоконфликтных действий в каждом из указанных конфликтных очагов строится с учетом их специфики.
Приведенные примеры показывают, что при определении тактики вмешательства управляющего субъекта в конфликтный процесс важно учитывать специфику содержания конфликта, его причин, степень интенсивности и особенности участников противоборства.
Наконец, управление любым социально-политическим конфликтом достигает цели, если действия по его регулированию и разрешению своевременны, оперативны и встречают поддержку у заинтересованных слоев общества. В анализируемой сфере общественно-политических отношений такое требование не менее актуально. Запущенность конфликта между местными и региональными органами власти и управления напрямую затрагивает интересы широких масс, вызывает недоверие к той и другой ветвям власти, перерастает в противоречие между народными массами и государственными органами.
Одной из самых приоритетных задач местной власти, говорил Президент РФ В.В. Путин, выступая на XIII расширенной юбилейной Сессии Конгресса муниципальных образований Российской Федерации 11 ноября 2003 г., «является налаживание постоянного и всестороннего взаимодействия с гражданами. Только при таком подходе мы можем говорить об эффективности и других составляющих местного самоуправления: законодательной, финансовой, административной». Чтобы достичь поставленной цели - сильной и дееспособной местной власти, отмечал В.В. Путин, нужно «... учиться работать в принципиально иных условиях, формировать новые действенные механизмы, анализировать и быстро преобразовывать собственный опыт. Для этого нам потребовались согласие в обществе, консолидация власти и политическая воля ... В последние два года ... наметились пути к избавлению от длительного противостояния местной и региональной властей» [30].
Существуют различные пути и модели разрешения конфликтов, достижения согласия в обществе.
В научной литературе различаются «силовая», «компромиссная» и «интегративная» модели разрешения конфликта. Силовая модель ведет к завершению конфликта в двух видах: «победа-поражение», «поражение-поражение». Она типична для правовых коллизий. Две других модели приводят к возможному разрешению конфликта по типу: «победа-победа», «выигрыш-выигрыш» [31]. Думается, что силовая модель неприемлема для преодоления конфликтных взаимоотношений между местным самоуправлением и государственной властью. Главным образом потому, что они законодательно призваны служить общим интересам одного и того же населения. Силовая модель — исключение. Причем она допустима лишь в форме судебного вмешательства в запущенный конфликтный процесс. Типичными моделями разрешения анализируемых конфликтов могут быть признаны «компромиссная» и «интегративная». Обе они обладают тем преимуществом, что обеспечивают реализацию принципа баланса или сочетания интересов местного сообщества и государства, способствуют объединению местных и государственных органов власти в их деятельности на благо народа.
В зависимости от возможных моделей разрешения конфликтов, интересов и целей конфликтующих субъектов применяются различные стили противсконфликтных действий.
Согласно некоторым социологическим опросам отдельных групп госслужащих — слушателей Северо-Кавказской академии госслужбы, наиболее распространенными в практике государственного управления являются стили сотрудничества и компромисса. Они соответствуют компромиссной и интегративной моделям разрешения управленческих конфликтов.
Стиль сотрудничества характеризуется тем, что субъект, реализуя его, активно участвует в разрешении конфликта, отстаивая при этом свои интересы, но стараясь совместно с другим субъектом искать пути достижения обоюдовыгодных результатов. Типичные ситуации, когда используется данный стиль: разрешение конфликта важно для обеих сторон, и никто не желает от этого устраниться; наличие длительных и взаимозависимых отношений у вовлеченных в конфликт; оба субъекта способны изложить суть своих интересов и выслушать друг друга; оба стремятся и умеют выработать альтернативные варианты решения проблемы [32]. Таковые можно зафиксировать во взаимоотношениях органов местного самоуправления и субъектов Федерации, что и дает основание говорить о целесообразности использования стиля сотрудничества.
Стиль компромисса заключается в такой тактике обеих сторон конфликта, при которой они ищут решение проблемы, основанное на взаимных уступках. Этот стиль наиболее эффективен в ситуациях, когда оба противоборствующие субъекта хотят одного и того же, но уверены, что одновременно для них это невыполнимо. Некоторые случаи, в которых стиль компромисса наиболее целесообразен: обе стороны испытывают недостаток в ресурсах, но проявляют взаимоисключающие подходы в преодолении ресурсного дефицита; обе стороны может удовлетворить временное решение спорного вопроса; обе стороны могут воспользоваться кратковременной выгодой, и пр. Стиль компромисса зачастую является удачным отступлением или последней возможностью найти любое решение. Отмеченные ситуации также во многом характерны для взаимоотношений местных и региональных органов власти и управления. Поэтому стиль компромисса будет полезным в преодолении возникающих между ними конфликтов.
Теперь о методах регулирования и разрешения конфликтов. Совокупность методов управления конфликтами в основном обусловлена законодательствами Федерации и ее субъектов, регулирующими взаимоотношения местного самоуправления и государственной власти. Это прежде всего разнообразные формы взаимодействия местных и региональных органов, прописанные в законодательстве и рожденные опытом становления местного самоуправления: заключение договоров и соглашений между органами государственной власти и муниципалитетами; создание координационных, консультативных и иных органов; добровольная передача органами местного самоуправления некоторых своих полномочий государственным органам в случае невозможности их реализации собственными силами; создание ассоциаций муниципальных образований с целью обобщения опыта работы и координации деятельности муниципальных образований по эффективному осуществлению своих прав и интересов; организация при администрациях субъектов РФ специальных органов по взаимодействию с органами местного самоуправления и др. В качестве методов регулирования и разрешения конфликтов могут использоваться все известные и используемые в мировой практике социального и государственного управления демократические технологии воздействия на конфликтные процессы. Одним из основных способов разрешения конфликтов считается общение между людьми, включающее в себя переговоры. Технология переговоров широко описана в мировой и отечественной литературе [33].
За последние годы в российской политической практике получил признание такой метод общения между конкурирующими субъектами, как обсуждение спорных проблем «за круглым столом». Опыт проведения «круглого стола» администрацией Ставропольского края на тему «Местное самоуправление и финансы», предложения его участников обобщены учеными Северо-Кавказской академии госслужбы и проанализированы в печати.
При всем преимуществе позитивных методов разрешения конфликтов, т. е. предполагающих использование конструктивных форм взаимодействия между конфликтующими сторонами, не исключается и применение негативных методов, преследующих цель достижения победы одной стороны над другой. Однако и в этом случае речь не идет о ликвидации тех или иных органов власти и управления, а имеется в виду, скажем, замена должностных лиц, конечно, путем легитимных процедур; отмена определенных решений в административно-правовом порядке; судебные иски и решения по ним в пользу одной из конфликтующих сторон, и т.д. Причем судебный порядок разрешения конфликтов — один из главных методов, использование которого предусмотрено законодательством.
Уделяя столь значительное внимание анализу конфликтов во взаимоотношениях органов местного самоуправления и государственной власти субъектов Федерации, ни в коей мере не следует замыкаться на этой проблеме, умалять главное во взаимоотношениях первичного и регионального уровней публичной власти и управления — единства и сотрудничества, взаимодополнения и взаимообогащения данных подсистем общей системы управления государством и обществом.
Важно исходить из постулата, противоположного известному «разделяй и властвуй»: взаимодействие всех субъектов власти и управления, а не разобщение их по региональным и местным анклавам, — основное условие сильной демократической государственной власти в России, а также эффективности федерализма и местного самоуправления.
Литература
1. См.: О формировании органов местного самоуправления в Российской Федерации. Совет по местному самоуправлению в Российской Федерации. - М., 1999. Т. II.
2. Тощенко Ж., Цветкова Г. Местное самоуправление: проблемы становления (опыт социологического анализа) // Социс. 1997. № 6. С. 115.
3.Там же.
4.Игнатов В.Г., Бутов В.И. Зарубежный опыт местного самоуправления и российская практика. — М., — Ростов н/Д, 1999. С. 9.
5.Там же. С. 8; См. ТЗ.КЭК6. Игнатов В.Г., Бутов В.И. Местное самоуправление: Российская практика и зарубежный опыт. — М. — Ростов н/Д, 2004.
6.Чуб В. Совершенствование механизма взаимоотношений органов региональной и муниципальной власти — важнейшее направление повышения эффективности государственного управления // Эффективные технологии в системе государственного и муниципального управления. — Майкоп, — Ростов н/Д, 1999.
7.Основные положения государственной политики в области развития местного самоуправления в Российской Федерации. Утверждены Указом Президента РФ от 15 октября 1999 г. № 1370.
8.Джаримов А. Формирование системы власти Республики Адыгея и адаптация современных технологий в условиях полиэт-ничного района // Эффективные технологии в системе государственного и муниципального управления. С. 57.
9.Там же. С. 56.
10.Игнатов В., Хоперская Л. и др. Законодательное оформление местного самоуправления в субъектах Российской Федерации на Северном Кавказе // Северо-Кавказский юридический вестник. 1998. № 1.
11.Парламентская газета. 1993. 29 июля.
12.Взаимодействие органов государственной власти и местного самоуправления: проблемы и перспективы (на примере Ставропольского края). - Ростов н/Д, — Пятигорск, 1999.
13.Регионы берут курс на реформу местного самоуправления // Известия. 1993. 16 июня.
14.Кровец И. Формирование местного самоуправления в Новосибирской области: стратегия реализации и политико-правовые коллизии // Конституционное право: восточноевропейское обозрение. 1998. № 3. С. 72.
15.Абдулатипов Р.Г., Михайлов В.А., Игнатов В.Г. и др. Реализация принципов федерализма (на примере Северного Кавказа). — Ростов н/Д: Изд-во СКАГС, 1997. С. 27-29.
16.Взаимодействие органов государственной власти и местного самоуправления: проблемы и перспективы (на примере Ставропольского края). С. 72—79.
17.См.: Местное самоуправление. 2003. № 22. С. 5.
18.См.: Игнатов В.Г., Лысенко В.Д. Реформирование государственной службы: мнения и оценки чиновников. — Ростов н/Д, 2003. С. 39.
19.Государственная власть и местное самоуправление в поли-этничных регионах. — Ростов н/Д, 1999. С. 17.
20.Совет по местному самоуправлению в Российской Федерации. Т. III. С. 22-23.
21.Чуб В. Указ. соч. С. 38, 52.
22.Там же.
23.Закон Ставропольского края «О местном самоуправлении в Ставропольском крае». Ст. 8; Закон «О местном самоуправлении в Карачаево-Черкесской Республике». Ст. 9; Закон Республики Адыгея «О местном самоуправлении». Ст. 10.
24.Закон Ставропольского края «О местном самоуправлении в Ставропольском крае». Ст. 9, п. 4.
25.Взаимодействие органов государственной власти и местного самоуправления: проблемы и перспективы (на примере Ставропольского края). С. 50.
26.«Рука Москвы станет длиннее?» // Парламентская газета. 1999. 14 июля.
27.Государственная власть и местное самоуправление в полиэтничных регионах. С. 19.
28.Игнатов В., Хоперская Л. и др. Указ. соч. С. 19.
29.Государственная власть и местное самоуправление в полиэтнических регионах. С. 19.
30.Вступительное слово Президента РФ В.В. Путина на XIII Юбилейной сессии Конгресса муниципальных образований Российской Федерации // Местное самоуправление. 2003. № 22. С. 5.
31.Зеркин Д.П. Основы конфликтологии. — Ростов н/Д: Феникс, 1998. С. 382.
32.Там же. С. 383-384.
33.См.: Скотт Д. Конфликты, пути их преодоления; Дек Д. Преодоление разногласий; Зеркин Д.П. Основы конфликтологии, и др.
Заключение
В предложенной читателю работе излагаются основы теории государственного управления, т.е. системы теоретических знаний о деятельности государства в сфере социального управления. Подчеркнем, что речь идет именно о комплексе знаний о государственном управлении, о теоретической, мысленной конструкции данной сферы государственной деятельности, но не о реально существующей и функционирующей системе действий и отношений. Теоретическая модель того или иного объекта не есть сам объект.
Теория государственного управления, хотя и формирующаяся научная дисциплина, но уже достаточно сложная, двухуровневая система знаний, включающая общую теорию и частные теории управления отдельными сферами общественной жизни людей. Основу общей теории составляет, кратко говоря, разработка развернутой концепции государственного управления, аккумулирующей современные достижения науки управления и практической политико-управленческой деятельности государства. Термин «концепция» в данном контексте используется в его изначальном смысле (conceptio — понимание, система) для обозначения синтеза идей, выражающих понимание авторами системы государственного управления. Иначе говоря, концепция государственного управления — это идеализированный (теоретический, мысленно-абстрактный) образ общей системы государственного управления. В такой интерпретации концепция может выполнять роль руководящей комплексной идеи или ведущего замысла в объяснении подсистем государственного управления, разнообразных конкретных управленческих структур и процессов. Она выражена в понятиях: «государственное управление», «государственная власть», «функции государственного управления», «объективные законы» и «принципы государственного управления», «государственное решение» и др., а также в описании его субъекта, объекта, структур, типичных управленческих действий и отношений.
Содержание концепции государственного управления, разработанной в лекциях, выражается в следующих положениях:
— управление жизнедеятельностью общества — одна из основных функций государства, характеризующая его социально-историческое предназначение;
—государственное управление — это специфический тип социального; это сознательное воздействие государственных институтов на общество с целью придания ему организованности в соответствии с установленными нормами, в целях обеспечения адаптации социальной системы к изменяющейся внешней среде, а также ее совершенствования и развития;
—государственное управление по природе своей политическое; его субъектами являются государственные органы, обладающие властными полномочиями, и другие государственные и общественно-политические организации и учреждения — элементы политической системы, а средством управляющего воздействия — государственная власть, ее механизмы, нормативно-правовая система, обеспечивающие подчинение воли управляемых воле управляющих; объект управления, его границы определяются общегосударственными интересами и потребностями общества;
— функции государственного управления — это политизированные функции управления социального; реализация их осуществляется в рамках правовых норм и других правил, установленных государственными институтами;
— государственное управление трактуется в широком социальном смысле; его виды: политическое руководство, административно-исполнительская и организационно-распорядительная деятельность органов исполнительной власти; ее формы: деятельность государственных органов, непосредственно целенаправляющая, организующая, координирующая и контролирующая, и деятельность, опосредованно управляющая, т.е. регулирующая объект нормативно-правовыми, экономическими и другими средствами; различные виды и формы управления осуществляются государственными органами разных уровней и ветвей власти;
— виды, формы, методы и средства определяются особенностями управляемого объекта, а также целями и политикой управляющего субъекта;
— государственное управление — деятельность субъективного фактора, но ему присущи свои объективные законы, описываемые теорией, проявляющиеся в разнообразных процессах управления и управленческих отношений;
— принципы государственного управления — основные положения, выработанные наукой и практикой, — закрепляются в большинстве своем в правовых нормах; в принципах отражаются объективные законы управления, а также специфика государственного строя и состояние политико-правовой культуры общества; принцип приоритетности государственной политики является общеметодологическим при принятии государственных решений;
—государственное управление — это процесс принятия и исполнения решений: политических, административных и др.; решения принимаются государственными органами различных уровней в пределах своих полномочий; выбор целей — определяющее звено процесса принятия решений;
—государственное управление функционирует как система, организуемая органами государственной власти; единая система управления — необходимое условие обеспечения управляемости общества и самого государства; единство системы не исключает, а предполагает многообразие и альтернативность в управлении, что реализуется прежде всего в наличии автономных уровней управляющих субъектов (федерального, регионального и местного);
—единство системы управления обеспечивается единством государственной власти (ее ветвей и уровней);
—общая единая система государственного управления модифицируется в рамках одного и того же политического режима, если изменяется характер приоритетных задач, решаемых государством на том или ином историческом этапе, если правящими органами избираются принципиально новые политические стратегии, а также становятся качественно иными социальная среда и внешние условия (в том числе экологические) жизнедеятельности общества.
Российская система государственного управления формируется на основе конституционных принципов установленного в стране государственного строя. Концептуальная модель управления приобретает особенности, обусловленные национальными чертами и спецификой современного этапа государственного строительства. Теоретический анализ процесса формирования новой системы, содержащийся в лекциях, позволяет составить представление об особенностях идеального типа системы государственного управления. Понятие «идеальный тип» обозначает теоретическую конструкцию, характеризующую существенные (общие и специфические) признаки управленческой деятельности и отношений, проявляющиеся в конкретных реальностях управления. Идеальный тип выражает тенденцию развития системы. Поэтому в методологическом плане он служит инструментом научного объяснения эволюции системы управления (1). Описание идеального типа государственного управления гипотетично, одно из возможных, характеризующих некоторые признаки, отобранные авторами. Однако признаки не единичные, не случайные, а повторяющиеся в разнообразных актах управления и в различных условиях в качестве элементов и процессов работающей системы управления.
Российский идеальный тип системы государственного управления характеризуется следующими специфическими признаками:
а) в идеологоценностном плане — это система национально-ориентированная, основанная на ценностях, традициях и историческом опыте Российского государства;
б) в политическом аспекте — это демократический тип государственного управления;
в) по конкретной направленности и предназначению — это антикризисная, инновационная и мобилизационная система;
г) по конкретно-историческому характеру — это система государственного управления переходного периода.
В реально действующей системе государственного управления отмеченные признаки могут проявляться лишь приближенно, в большей или меньшей степени, в зависимости от того, насколько значителен уровень рациональности управления, научной его обоснованности, насколько оно свободно от заблуждений и влияния групповых интересов и насколько последовательно ориентировано на реализацию действительно государственных целей.
Национально-ориентированный характер российской системы государственного управления выражается главным образом в специфике системы, обусловленной конкретно-историческими особенностями российского социума и государственности, политической культуры и традиций, а также этноструктуры населения и масштабности геополитического пространства страны. Исторически, как отмечалось, государство в России, политическая власть, причем высшая, централизованная, олицетворяемая одним лидером, играли определяющую роль в государственной и общественной жизни населения страны. Исторически укорененная в политической культуре россиян приверженность к доминирующей роли государства в их жизни, к государственному централизму, воплощенному в верховной единоличной власти, обостряет акцент в современной системе управления на усилении функций государства и потребности общества в единстве системы власти и управления, на необходимости вертикали во властеотношениях. Влияние факторов, связанных с этноструктурой населения и геополитическим пространством, находит проявление в федерализме как форме национально-территориального устройства государства и принципе государственного управления. Федерализм «выступает как единственно возможная форма демократического управления ... обширным государством», — подчеркивает специалист по конституционному праву России проф. М.В. Баглай [2]. Федерализм обеспечивает единство государственного управления многосоставным обществом через многоообразие его субъектов.
Демократичность системы государственного управления как ее сущностная черта воплощается в базовых принципах, структурах, функциях и формах, в методах и стиле управления, проанализированных в соответствующих разделах настоящей работы. В определении идеального типа системы государственного управления как демократического выражается тенденция развития, поскольку нынешнее реальное состояние управленческого процесса еще во многом не отвечает критериям демократии, несет в себе некоторые методы и приемы авторитаризма. Потенциал соответствующих конституционных демократических принципов еще далеко не реализован. Это, в частности, подтверждается анализом федеративных отношений и местного самоуправления в стране.
Антикризисный, инновационный и мобилизационный тип системы государственного управления обусловлен состоянием Российского государства, находящегося уже в течение десятилетия в глубоком системном кризисе. Необходимость и реализация такой системы, как это бывало и в ряде многих других стран мира, связаны с проблемой выживания государства и страны. Антикризисный характер системы управления проявляется прежде всего в постепенной переориентации политической стратегии с неолиберальной концепции роли государства на концепцию, включающую признание активной регулирующей (управляющей) его функции в экономике и социальной сфере, в возрастающем внимании к прогнозирующей, планирующей и контролирующей функциям государственных органов. Характерными признаками антикризисной направленности нынешней системы государственного управления можно считать также тенденцию укрепления единой системы государственной исполнительной власти и совершенствования взаимодействия управляющих субъектов различных уровней; некоторый пересмотр приоритетов экономической политики в плане актуализации проблемы развития реального сектора экономики и управления государственной собственностью; жесткость бюджетной и налоговой политики, что говорит об усилении распределительной функции государства, и др.
Антикризисная направленность государственной системы управления связана с теми качественными изменениями, которые происходят в стране, с реформированием политической системы, экономических и социальных отношений. Ее предназначение — быть орудием глубокой модернизации общества. Отсюда инновационный и мобилизационный характер системы. Мировым опытом и современной наукой управления доказано, что та или иная страна обретает способность вырваться из тисков кризиса, постигшего ее, и перейти на новый этап развития только при наличии инновационного типа управления [3]. Что касается государственного управления в современной России, то инновационный тип его предполагает следующие составляющие: государственную стратегию возрождения и устойчивого экономического и социокультурного развития; политику технологического прогресса в экономике; высококвалифицированный государственный аппарат; широкое использование технологий социального менеджмента; преодоление традиционного российского административно-государственного консерватизма.
Инновационный характер системы требует разграничения функций государственной власти и управления. Тем более это важно, когда одни и те же государственные органы реализуют и государственно-властные и управленческие функции, что служит основанием для поглощения управления исполнительной властью. Управляющий субъект осуществляет управление объектом не только потому, что он наделен юридически-властными полномочиями и реализует их, т.е. воздействует на управляемого, принуждает к поведению, соответствующему поставленным целям. Субъект управляет прежде всего в силу совпадения его целей с целями управляемых; он управляет силой организации, информирования о планах рационального совершенствования условий жизни людей, силой интересов управляемых, конкретизированных в комплексе мотиваций активности. Власть предписывает, разрешает, запрещает, наказывает, требует послушания. Идеальный гражданин для нее — законопослушный гражданин. Управляющий субъект, опираясь на осуществление властных действий, осуществляет творческий процесс выбора целей, разрабатывает пути их реализации, принимает решения организует их исполнение, используя в случае необходимости, и механизмы властного воздействия (нормативно-правового). Идеальный субъект управления — и законопослушный и творчески активный коллективный государственный орган или конкретное, должностное лицо.
Мобилизационный характер управляющей системы — типичная черта антикризисного государственного управления. Это не означает тотального применения командно-административных методов и сосредоточения управленческих функций в центральном органе власти. Хотя практическое управление невозможно без администрирования, в данном случае речь идет о такой системе, которая была бы способна мобилизовать и реализовать все доступные ресурсы (материально-экономические, социальные, информационные, человеческие). Этой задаче были бы подчинены процедуры выбора и реализации экономической и социальной политик, механизмы стимулирования активности населения, научно-технического прогресса, а также система нормативно-правового обеспечения управления.
Главное в системе государственного управления переходного периода — обеспечение постепенного, эволюционного изменения российского общества и перехода его в новое состояние; реализация стратегий устойчивого социально-экономического развития, исключающих как глобальные разрушительные перевороты, так и политический и государственно-управленческий консерватизм. В политическом плане система управления переходного периода предполагает стабильное состояние государства и общества, достаточный для проведения эффективной политики уровень доверия большинства граждан органам государственной власти и управления, сплоченность всех активных сил общества вокруг стратегических целей государства и участие в их осуществлении.
Одна из существенных особенностей системы государственного управления переходного периода (в идеале) — способность сочетать новые структуры, функции, цели и стратегии, способы и средства их осуществления с элементами управления, перешедшими из советской системы, но соответствующими объективным потребностям и целям современной системы. К примеру, такая функция управления, как планирование, может быть реализована не только методом индикативного планирования (в экономике), но также в форме планирования директивного (в бюджетно-финансовой сфере, в военном строительстве и укреплении безопасности страны, в проведении административной реформы и др.). Целесообразно сочетание методов экономических и управленческо-административных (командных), разумеется, в определенных рамках, если речь идет о вмешательстве государственных органов в разрешение острых конфликтных ситуаций.
Рационально применение наряду с демократическими методами управления авторитарных, государственного регулирования — с саморегуляцией социально-экономических и других общественных организаций, механизма нормативно-правового регулирования общественных отношений — с социальным контролем, и т.д. Сочетание может быть эффективным при условии определения меры его оптимальности (золотой середины) и ведущей роли той или иной противоположности в конкретной управленческой ситуации.
В контексте перспективы роста эффективности системы государственного управления переходного периода первенствующее значение имеет ориентация стратегий на ценности XXI в. — человека, природу, культуру, знание, информацию и коммуникацию.
Охарактеризованный нами идеальный тип системы управления современного периода развития России — это нормативный образ, теоретическая модель системы, тем не менее не оторванная от действительности мыслительная конструкция, поскольку отражает, во-первых, объективные требования, обусловленные закономерностями и принципами государственного управления; во-вторых — реальные тенденции становления новой системы государственного управления; в-третьих — огромный человеческий, экономический, социокультурный и геополитический потенциал нашей страны.
Сформулированная теоретическая концепция государственного управления имеет научно-практическое значение: служит средством познания государственной деятельности в области управления обществом и теоретическим критерием оценки развития общегосударственной системы управления.
Литература
1. См.: Вебер М. Избр. произведения. — М., 1990. С. 623-624;
2. Арон Р. Этапы развития социологической мысли. — М., 1993. С. 512-513.
3. Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. - М., 1998. С. 292.
Рекомендуемая литература
1. Конституция Российской Федерации. М., 1993.
2. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации».
3. Федеральный закон от 28 августа 1995 г. № 154-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
4. Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (в редакции федеральных законов от 29.07.2000 № 106-ФЗ; от 08.02.01 № 3-ФЗ; от 07.05.02 № 47-ФЗ и от 04.06.03 № 95-ФЗ).
5. Федеральный закон от 31 июля 1995 г. № 119-ФЗ «Об основах государственной службы Российской Федерации» //Собрание законодательства РФ. 1995. № 31. Ст. 2990.
6. Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации» //Собрание законодательства РФ. 2003. № 22. Ст. 2063.
7. Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» //Собрание законодательства РФ. 2003. № 22. Ст. 2063.
8. Основные положения государственной политики в области развития местного самоуправления в Российской Федерации. Утверждены Указом Президента РФ от 15 октября 1999 г. № 1370.
9. Указ Президента РФ «О мерах по развитию федеративных отношений и местного самоуправления в РФ» от 27 ноября 2003 г. № 1395.
10.Указ Президента РФ «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» от 9 марта 2004 г. № 314.
11.Указ Президента РФ от 19 ноября 2002 г. № 1336 «О Федеральной программе «Реформирование государственной службы Российской Федерации (2003-2005 годы)» // Российская газета. 2002. 23 ноября. С. 5.
12.Указ Президента РФ от 12 августа 2002 г. № 885 «Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих» // Собрание законодательства РФ. 2003. № 33. Ст. 3196.
13.Послание Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию РФ 2003 г. // Российская газета. 2003. 17 мая.
14.Послание Президента РФ В.В. Путина Федеральному собранию РФ 2004 г. // Российская газета, 2004. 27 мая.
15.Атаманчук Г.В. Государственное управление: Учебное пособие. - М.: Экономика, 2000; изд. 2-е, дополн. — М.: Омега-Л, 2004.
16.Глазунова Н.И. Государственное управление: Учебник для вузов. — М.: Муниципальный мир, 2004.
17.Глазунова Н.И. Система государственного управления: Учебник для вузов. — М., 2002.
18.Государственное управление: основы теории и организации: Учебник / Под ред. В.А. Козбаненко. - М., 2000.
19.Государство, власть, управление и право: учебно-методическое пособие / Под ред. Н.И. Глазуновой. — М.: ГУУ, 2000.
20.Зеркин Д.П., Игнатов В.Г. Основы теории государственного управления. — М., — Ростов н/Д, 2000.
21.Игнатов В.Г. Государственное и муниципальное управление: Введение в специальность. — Ростов н/Д: изд-во СКАГС, 2004.
22.Игнатов В.Г. Становление государственного управления и местного самоуправления. — Ростов н/Д, 2001.
23.История государственного управления России: Учебник. 3-е изд. / Отв. ред. В.Г. Игнатов. — Ростов н/Д, 2003.
24.История государственного управления в России / Под ред. Пихои. — М.: Изд-во РАГС, 2004.
25.История государственного управления в России / Под ред. В.Г. Игнатова. — М.: Проспект, 2004.
26.Кнорринг В.И. Основы государственного и муниципального управления: Учебник. — М.: Изд-во «Экзамен», 2004.
27.Пикулькин А.В. Система государственного управления: Учебник для вузов. 2-е изд. — М., 2001.
28.Радченко А.И. Основы государственного и муниципального управления: системный подход: Учебник для вузов. 2-е изд. — Ростов н/Д, 2001.
29.Рой О.М. Система государственного и муниципального управления. — СПб: Питер, 2003.
30.Уткин Э.А., Денисов А.Ф. Государственное и муниципальное управление: Учеб. пособие. - М., 2001.
31.Чиркин В.Е. Государственное и муниципальное управление: Учебник. — М.: Юристъ, 2004.
32.Шамхалов Ф.И. Теория государственного управления. -М., 2002.
33.Шамхалов Ф.И. Основы теории государственного управления. - М., 2003.
Приложения
Приложение 1. Конституция Российской федерации (извлечения)
Глава 1. Основы конституционного строя Статья 1
1. Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления.
2. Наименования Российская Федерация и Россия равнозначны.
Статья 2
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства.
Статья 3
1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ.
2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления.
3. Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы.
4. Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или присвоение властных полномочий преследуются по федеральному закону.
Статья 4
1. Суверенитет Российской Федерации распространяется на всю ее территорию.
2. Конституция Российской Федерации и федеральные законы имеют верховенство на всей территории Российской Федерации.
3. Российская Федерация обеспечивает целостность и неприкосновенность своей территории.
Статья 5
1. Российская Федерация состоит из республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов — равноправных субъектов Российской Федерации.
2. Республика (государство) имеет свою конституцию и законодательство. Край, область, город федерального значения, автономная область, автономный округ имеет свой устав и законодательство.
3. Федеративное устройство Российской Федерации основано на ее государственной целостности, единстве системы государственной власти, разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, равноправии и самоопределении народов в Российской Федерации.
4. Во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти все субъекты Российской Федерации между собой равноправны.
Статья 6
1. Гражданство Российской Федерации приобретается и прекращается в соответствии с федеральным законом, является единым и равным независимо от оснований приобретения.
2. Каждый гражданин Российской Федерации обладает на ее территории всеми правами и свободами и несет равные обязанности, предусмотренные Конституцией Российской Федерации.
3. Гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства или права изменить его.
Статья 7
1. Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.
2. В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты.
Статья 8
1. В Российской Федерации гарантируются единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности.
2. В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности.
Статья 9
1. Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории.
2. Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности.
Статья 10
Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны.
Статья 11
1. Государственную власть в Российской Федерации осуществляют Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума), Правительство Российской Федерации, суды Российской Федерации.
2. Государственную власть в субъектах Российской Федерации осуществляют образуемые ими органы государственной власти.
3. Разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляется настоящей Конституцией, Федеративным и иными договорами о разграничении предметов ведения и полномочий.
Статья 12
В Российской Федерации признается и гарантируется местное самоуправление. Местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно. Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти.
Статья 13
1. В Российской Федерации признается идеологическое многообразие.
2. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.
3. В Российской Федерации признаются политическое многообразие, многопартийность.
4. Общественные объединения равны перед законом.
5. Запрещается создание и деятельность общественных объединений, цели или действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни.
Статья 14
1. Российская Федерация — светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.
2. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом.
Статья 15
1.Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции Российской Федерации.
2.Органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы.
3. Законы подлежат официальному опубликованию. Неопубликованные законы не применяются. Любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего сведения.
4. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.
Статья 16
1. Положения настоящей главы Конституции составляют основы конституционного строя Российской Федерации и не могут быть изменены иначе как в порядке, установленном настоящей Конституцией.
2. Никакие другие положения настоящей Конституции не могут противоречить основам конституционного строя Российской Федерации.
Глава 2. Права и свободы человека и гражданина Статья 17
1. В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с настоящей Конституцией.
2. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения.
3. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц.
Статья 18
Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием. <...>
Статья 32
1. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и через своих представителей.
2. Граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме.
3. Не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.
4. Граждане Российской Федерации имеют равный доступ к государственной службе.
5. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в отправлении правосудия.
Статья 33
Граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления. <...>
Глава 3. Федеративное устройство Статья 65
1. В составе Российской Федерации находятся субъекты Российской Федерации:
Республика Адыгея (Адыгея), Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика Ингушетия6[6], Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия7[7], Карачаево-Черкесская Республика, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Саха (Якутия), Республика Северная Осетия — Алания8[8], Республика Татарстан (Татарстан), Республика Тыва, Удмуртская Республика, Республика Хакасия, Чеченская Республика, Чувашская Республика — Чувашия9[9];
Алтайский край, Краснодарский край, Красноярский край, Приморский край, Ставропольский край, Хабаровский край;
Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская область, Ивановская область, Иркутская область, Калининградская область, Калужская область, Камчатская область, Кемеровская область, Кировская область, Костромская область, Курганская область, Курская область, Ленинградская область, Липецкая область, Магаданская область, Московская область, Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Омская область, Оренбургская область, Орловская область, Пензенская область, Пермская область, Псковская область, Ростовская область, Рязанская область, Самарская область, Саратовская область, Сахалинская область, Свердловская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Томская область, Тульская область, Тюменская область, Ульяновская область, Челябинская область, Читинская область, Ярославская область;
Москва, Санкт-Петербург — города федерального значения;
Еврейская автономная область;
Агинский Бурятский автономный округ, Коми-Пермяцкий автономный округ10[10], Корякский автономный округ, Ненецкий автономный округ, Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ, Усть-Ордынский Бурятский автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Чукотский автономный округ, Эвенкийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ.
2. Принятие в Российскую Федерацию и образование в ее составе нового субъекта осуществляются в порядке, установленном федеральным конституционным законом.
Статья 66
1. Статус республики определяется Конституцией Российской Федерации и конституцией республики.
2. Статус края, области, города федерального значения, автономной области, автономного округа определяется Конституцией Российской Федерации и уставом края, области, города федерального значения, автономной области, автономного округа, принимаемым законодательным (представительным) органом соответствующего субъекта Российской Федерации.
3. По представлению законодательных и исполнительных органов автономной области, автономного округа может быть принят федеральный закон об автономной области, автономном округе.
4. Отношения автономных округов, входящих в состав края или области, могут регулироваться федеральным законом и договором между органами государственной власти автономного округа и, соответственно, органами государственной власти края или области.
5. Статус субъекта Российской Федерации может быть изменен по взаимному согласию Российской Федерации и субъекта Российской Федерации в соответствии с федеральным конституционным законом.
Статья 67
1. Территория Российской Федерация включает в себя территории ее субъектов, внутренние воды и территориальное море, воздушное пространство над ними.
2. Российская Федерация обладает суверенными правами и осуществляет юрисдикцию на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации в порядке, определяемом федеральным законом и нормами международного права.
3. Границы между субъектами Российской Федерации могут быть изменены с их взаимного согласия.
Статья 68
1. Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык.
2. Республики вправе устанавливать свои государственные языки. В органах государственной власти, органах местного самоуправления, государственных учреждениях республик они употребляются наряду с государственным языком Российской Федерации.
3. Российская Федерация гарантирует всем ее народам право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития.
Статья 69
Российская Федерация гарантирует права коренных малочисленных народов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации.
Статья 70
1. Государственные флаг, герб и гимн Российской Федерации, их описание и порядок официального использования устанавливаются федеральным конституционным законом.
2. Столицей Российской Федерации является город Москва. Статус столицы устанавливается федеральным законом.
Статья 71
В ведении Российской Федерации находятся:
а) принятие и изменение Конституции Российской Федерации и федеральных законов, контроль за их соблюдением;
б) федеративное устройство и территория Российской Федерации;
в) регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина; гражданство в Российской Федерации; регулирование и защита прав национальных меньшинств;
г) установление системы федеральных органов законодательной, исполнительной и судебной власти, порядка их организации и деятельности; формирование федеральных органов государственной власти;
д) федеральная государственная собственность и управление ею;
е) установление основ федеральной политики и федеральные программы в области государственного, экономического, экологического, социального, культурного и национального развития Российской Федерации;
ж) установление правовых основ единого рынка; финансовое, валютное, кредитное, таможенное регулирование, денежная эмиссия, основы ценовой политики; федеральные экономические службы, включая федеральные банки;
з) федеральный бюджет; федеральные налоги и сборы; федеральные фонды регионального развития;
и) федеральные энергетические системы, ядерная энергетика, расщепляющиеся материалы; федеральные транспорт, пути сообщения, информация и связь; деятельность в космосе;
к) внешняя политика и международные отношения Российской Федерации, международные договоры Российской Федерации; вопросы войны и мира;
л) внешнеэкономические отношения Российской Федерации;
м) оборона и безопасность; оборонное производство; определение порядка продажи и покупки оружия, боеприпасов, военной техники и другого военного имущества; производство ядовитых веществ, наркотических средств и порядок их использования;
н) определение статуса и защита государственной границы, территориального моря, воздушного пространства, исключительной экономической зоны и континентального шельфа Российской Федерации;
о) судоустройство; прокуратура; уголовное, уголовно-процессуальное и уголовно-исполнительное законодательство; амнистия и помилование; гражданское, гражданско-процессуальное и арбитражно-процессуальное законодательство; правовое регулирование интеллектуальной собственности;
п) федеральное коллизионное право;
р) метеорологическая служба, стандарты, эталоны, метрическая система и исчисление времени; геодезия и картография; наименования географических объектов; официальный статистический и бухгалтерский учет;
с) государственные награды и почетные звания Российской Федерации;
т) федеральная государственная служба.
Статья 72
1. В совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находятся:
а) обеспечение соответствия конституций и законов республик, уставов, законов и иных нормативных правовых актов краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов Конституции Российской Федерации и федеральным законам;
б) защита прав и свобод человека и гражданина; защита прав национальных меньшинств; обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности; режим пограничных зон;
в) вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и другими природными ресурсами;
г) разграничение государственной собственности;
д) природопользование; охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности; особо охраняемые природные территории; охрана памятников истории и культуры;
е) общие вопросы воспитания, образования, науки, культуры, физической культуры и спорта;
ж) координация вопросов здравоохранения; защита семьи, материнства, отцовства и детства; социальная защита, включая социальное обеспечение;
з) осуществление мер по борьбе с катастрофами, стихийными бедствиями, эпидемиями, ликвидация их последствий;
и) установление общих принципов налогообложения и сборов в Российской Федерации;
к) административное, административно-процессуальное, трудовое, семейное, жилищное, земельное, водное, лесное законодательство, законодательство о недрах, об охране окружающей среды;
л) кадры судебных и правоохранительных органов; адвокатура, нотариат;
м) защита исконной среды обитания и традиционного образа жизни малочисленных этнических общностей;
н) установление общих принципов организации системы органов государственной власти и местного самоуправления;
о) координация международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации, выполнение международных договоров Российской Федерации.
2. Положения настоящей статьи в равной мере распространяются на республики, края, области, города федерального значения, автономную область, автономные округа.
Статья 73
Вне пределов ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации субъекты Российской Федерации обладают всей полнотой государственной власти.
Статья 74
1. На территории Российской Федерации не допускается установление таможенных границ, пошлин, сборов и каких-либо иных препятствий для свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств.
2. Ограничения перемещения товаров и услуг могут вводиться в соответствии с федеральным законом, если это необходимо для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей.
Статья 75
1. Денежной единицей в Российской Федерации является рубль. Денежная эмиссия осуществляется исключительно Центральным банком Российской Федерации. Введение и эмиссия других денег в Российской Федерации не допускаются.
2. Защита и обеспечение устойчивости рубля — основная функция Центрального банка Российской Федерации, которую он осуществляет независимо от других органов государственной власти.
3. Система налогов, взимаемых в федеральный бюджет, и общие принципы налогообложения и сборов в Российской Федерации устанавливаются федеральным законом.
4. Государственные займы выпускаются в порядке, определяемом федеральным законом, и размещаются на добровольной основе.
Статья 76
1. По предметам ведения Российской Федерации принимаются федеральные конституционные законы и федеральные законы, имеющие прямое действие на всей территории Российской Федерации.
2.По предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации издаются федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации.
3.Федеральные законы не могут противоречить федеральным конституционным законам.
4.Вне пределов ведения Российской Федерации, совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации республики, края, области, города федерального значения, автономная область и автономные округа осуществляют собственное правовое регулирование, включая принятие законов и иных нормативных правовых актов.
5.Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации не могут противоречить федеральным законам, принятым в соответствии с частями первой и второй настоящей статьи. В случае противоречия между федеральным законом и иным актом, изданным в Российской Федерации, действует федеральный закон.
6.В случае противоречия между федеральным законом и нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, изданным в соответствии с частью четвертой настоящей статьи, действует нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации.
Статья 77
1. Система органов государственной власти республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов устанавливается субъектами Российской Федерации самостоятельно в соответствии с основами конституционного строя Российской Федерации и общими принципами организации представительных и исполнительных органов государственной власти, установленными федеральным законом.
2. В пределах ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации образуют единую систему исполнительной власти в Российской Федерации.
Статья 78
1. Федеральные органы исполнительной власти для осуществления своих полномочий могут создавать свои территориальные органы и назначать соответствующих должностных лиц.
2. Федеральные органы исполнительной власти по соглашению с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации могут передавать им осуществление части своих полномочий, если это не противоречит Конституции Российской Федерации и федеральным законам.
3. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации по соглашению с федеральными органами исполнительной власти могут передавать им осуществление части своих полномочий.
4. Президент Российской Федерации и Правительство Российской Федерации обеспечивают в соответствии с Конституцией Российской Федерации осуществление полномочий федеральной государственной власти на всей территории Российской Федерации.
Статья 79
Российская Федерация может участвовать в межгосударственных объединениях и передавать им часть своих полномочий в соответствий с международными договорами, если это не влечет ограничения прав и свобод человека и гражданина и не противоречит основам конституционного строя Российской Федерации.
Глава 4. Президент Российской Федерации Статья 80
1. Президент Российской Федерации является главой государства.
2. Президент Российской Федерации является гарантом Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина. В установленном Конституцией Российской Федерации порядке он принимает меры по охране суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности, обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти.
3. Президент Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными законами определяет основные направления внутренней и внешней политики государства.
4. Президент Российской Федерации как глава государства представляет Российскую Федерацию внутри страны и в международных отношениях.
Статья 81
1. Президент Российской Федерации избирается на четыре года гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
2. Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет.
3. Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков подряд.
4. Порядок выборов Президента Российской Федерации определяется федеральным законом.
Статья 82
1. При вступлении в должность Президент Российской Федерации приносит народу следующую присягу:
«Клянусь при осуществлении полномочий Президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу».
2. Присяга приносится в торжественной обстановке в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы и судей Конституционного Суда Российской Федерации.
Статья 83
Президент Российской Федерации:
а) назначает с согласия Государственной Думы Председателя Правительства Российской Федерации;
б) имеет право председательствовать на заседаниях Правительства Российской Федерации;
в) принимает решение об отставке Правительства Российской Федерации;
г) представляет Государственной Думе кандидатуру для назначения на должность Председателя Центрального банка Российской Федерации; ставит перед Государственной Думой вопрос об освобождении от должности Председателя Центрального банка Российской Федерации;
д) по предложению Председателя Правительства Российской Федерации назначает на должность и освобождает от должности заместителей Председателя Правительства Российской Федерации, федеральных министров;
е) представляет Совету Федерации кандидатуры для назначения на должности судей Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, а также кандидатуру Генерального прокурора Российской Федерации; вносит в Совет Федерации предложение об освобождении от должности Генерального прокурора Российской Федерации; назначает судей других федеральных судов;
ж) формирует и возглавляет Совет Безопасности Российской Федерации, статус которого определяется федеральным законом;
з) утверждает военную доктрину Российской Федерации;
и) формирует Администрацию Президента Российской Федерации;
к) назначает и освобождает полномочных представителей Президента Российской Федерации;
л) назначает и освобождает высшее командование Вооруженных Сил Российской Федерации;
м) назначает и отзывает после консультаций с соответствующими комитетами или комиссиями палат Федерального Собрания дипломатических представителей Российской Федерации в иностранных государствах и международных организациях.
Статья 84
Президент Российской Федерации:
а) назначает выборы Государственной Думы в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральным законом;
б) распускает Государственную Думу в случаях и порядке, предусмотренных Конституцией Российской Федерации;
в) назначает референдум в порядке, установленном федеральным конституционным законом;
г) вносит законопроекты в Государственную Думу;
д) подписывает и обнародует федеральные законы;
е) обращается к Федеральному Собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства.
Статья 85
1. Президент Российской Федерации может использовать согласительные процедуры для разрешения разногласий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, а также между органами государственной власти субъектов Российской Федерации. В случае недостижения согласованного решения он может передать разрешение спора на рассмотрение соответствующего суда.
2. Президент Российской Федерации вправе приостанавливать действие актов органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случае противоречия этих актов Конституции Российской Федерации и федеральным законам, международным обязательствам Российской Федерации или нарушения прав и свобод человека и гражданина до решения этого вопроса соответствующим судом.
Статья 86
Президент Российской Федерации:
а) осуществляет руководство внешней политикой Российской Федерации;
б) ведет переговоры и подписывает международные договоры Российской Федерации;
в) подписывает ратификационные грамоты;
г) принимает верительные и отзывные грамоты аккредитуемых при нем дипломатических представителей.
Статья 87
1. Президент Российской Федерации является Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Российской Федерации.
2. В случае агрессии против Российской Федерации или непосредственной угрозы агрессии Президент Российской Федерации вводит на территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях военное положение с незамедлительным сообщением об этом Совету Федерации и Государственной Думе.
3. Режим военного положения определяется федеральным конституционным законом.
Статья 88
Президент Российской Федерации при обстоятельствах и в порядке, предусмотренных федеральным конституционным законом, вводит на территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях чрезвычайное положение с незамедлительным сообщением об этом Совету Федерации и Государственной Думе.
Статья 89
Президент Российской Федерации:
а) решает вопросы гражданства Российской Федерации и предоставления политического убежища;
б) награждает государственными наградами Российской Федерации, присваивает почетные звания Российской Федерации, высшие воинские и высшие специальные звания;
в) осуществляет помилование.
Статья 90
1. Президент Российской Федерации издает указы и распоряжения.
2. Указы и распоряжения Президента Российской Федерации обязательны для исполнения на всей территории Российской Федерации.
3. Указы и распоряжения Президента Российской Федерации не должны противоречить Конституции Российской Федерации и федеральным законам.
Статья 91
Президент Российской Федерации обладает неприкосновенностью.
Статья 92
1. Президент Российской Федерации приступает к исполнению полномочий с момента принесения им присяги и прекращает их исполнение с истечением срока его пребывания в должности с момента принесения присяги вновь избранным Президентом Российской Федерации.
2. Президент Российской Федерации прекращает исполнение полномочий досрочно в случае его отставки, стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия или отрешения от должности. При этом выборы Президента Российской Федерации должны состояться не позднее трех месяцев с момента досрочного прекращения исполнения полномочий.
3. Во всех случаях, когда Президент Российской Федерации не в состоянии выполнять свои обязанности, их временно исполняет Председатель Правительства Российской Федерации. Исполняющий обязанности Президента Российской Федерации не имеет права распускать Государственную Думу, назначать референдум, а также вносить предложения о поправках и пересмотре положений Конституции Российской Федерации.
Статья 93
1. Президент Российской Федерации может быть отрешен от должности Советом Федерации только на основании выдвинутого Государственной Думой обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления, подтвержденного заключением Верховного Суда Российской Федерации о наличии в действиях Президента Российской Федерации признаков преступления и заключением Конституционного Суда Российской Федерации о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения.
2. Решение Государственной Думы о выдвижении обвинения и решение Совета Федерации об отрешении Президента от должности должны быть приняты двумя третями голосов от общего числа в каждой из палат по инициативе не менее одной трети депутатов Государственной Думы и при наличии заключения специальной комиссии, образованной Государственной Думой.
3. Решение Совета Федерации об отрешении Президента Российской Федерации от должности должно быть принято не позднее чем в трехмесячный срок после выдвижения Государственной Думой обвинения против Президента. Если в этот срок решение Совета Федерации не будет принято, обвинение против Президента считается отклоненным.
Глава 5. Федеральное Собрание
Статья 94
Федеральное Собрание — парламент Российской Федерации — является представительным и законодательным органом Российской Федерации.
Статья 95
1. Федеральное Собрание состоит из двух палат — Совета Федерации и Государственной Думы.
2. В Совет Федерации входят по два представителя от каждого субъекта Российской Федерации: по одному от представительного и исполнительного органов государственной власти.
3. Государственная Дума состоит из 450 депутатов.
Статья 96
1. Государственная Дума избирается сроком на четыре года.
2. Порядок формирования Совета Федерации и порядок выборов депутатов Государственной Думы устанавливаются федеральными законами.
Статья 97
1. Депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший 21 года и имеющий право участвовать в выборах.
2. Одно и то же лицо не может одновременно являться членом Совета Федерации и депутатом Государственной Думы. Депутат Государственной Думы не может быть депутатом иных представительных органов государственной власти и органов местного самоуправления.
3. Депутаты Государственной Думы работают на профессиональной постоянной основе. Депутаты Государственной Думы не могут находиться на государственной службе, заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности.
Статья 98
1. Члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы обладают неприкосновенностью в течение всего срока их полномочий. Они не могут быть задержаны, арестованы, подвергнуты обыску, кроме случаев задержания на месте преступления, а также подвергнуты личному досмотру, за исключением случаев, когда это предусмотрено федеральным законом для обеспечения безопасности других людей.
2. Вопрос о лишении неприкосновенности решается по представлению Генерального прокурора Российской Федерации соответствующей палатой Федерального Собрания.
Статья 99
1. Федеральное Собрание является постоянно действующим органом.
2. Государственная Дума собирается на первое заседание на тридцатый день после избрания. Президент Российской Федерации может созвать заседание Государственной Думы ранее этого срока.
3. Первое заседание Государственной Думы открывает старейший по возрасту депутат.
4. С момента начала работы Государственной Думы нового созыва полномочия Государственной Думы прежнего созыва прекращаются.
Статья 100
1. Совет Федерации и Государственная Дума заседают раздельно.
2. Заседания Совета Федерации и Государственной Думы являются открытыми. В случаях, предусмотренных регламентом палаты, она вправе проводить закрытые заседания.
3. Палаты могут собираться совместно для заслушивания посланий Президента Российской Федерации, посланий Конституционного Суда Российской Федерации, выступлений руководителей иностранных государств.
Статья 101
1. Совет Федерации избирает из своего состава Председателя Совета Федерации и его заместителей. Государственная Дума избирает из своего состава Председателя Государственной Думы и его заместителей.
2. Председатель Совета Федерации и его заместители, Председатель Государственной Думы и его заместители ведут заседания и ведают внутренним распорядком палаты.
3. Совет Федерации и Государственная Дума образуют комитеты и комиссии, проводят по вопросам своего ведения парламентские слушания.
4. Каждая из палат принимает свой регламент и решает вопросы внутреннего распорядка своей деятельности.
5. Для осуществления контроля за исполнением федерального бюджета Совет Федерации и Государственная Дума образуют Счетную палату, состав и порядок деятельности которой определяются федеральным законом.
Статья 102
1. К ведению Совета Федерации относятся:
а) утверждение изменения границ между субъектами Российской Федерации;
б) утверждение указа Президента Российской Федерации о введении военного положения;
в) утверждение указа Президента Российской Федерации о введении чрезвычайного положения;
г) решение вопроса о возможности использования Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации;
д) назначение выборов Президента Российской Федерации;
е) отрешение Президента Российской Федерации от должности;
ж) назначение на должность судей Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации;
з) назначение на должность и освобождение от должности Генерального прокурора Российской Федерации;
и) назначение на должность и освобождение от должности заместителя Председателя Счетной палаты и половины состава ее аудиторов.
2. Совет Федерации принимает постановления по вопросам, отнесенным к его ведению Конституцией Российской Федерации.
3. Постановления Совета Федерации принимаются большинством голосов от общего числа членов Совета Федерации, если иной порядок принятия решений не предусмотрен Конституцией Российской Федерации.
Статья 103
1. К ведению Государственной Думы относятся:
а) дача согласия Президенту Российской Федерации на назначение Председателя Правительства Российской Федерации;
б) решение вопроса о доверии Правительству Российской Федерации;
в) назначение на должность и освобождение от должности Председателя Центрального банка Российской Федерации;
г) назначение на должность и освобождение от должности Председателя Счетной палаты и половины состава ее аудиторов;
д) назначение на должность и освобождение от должности Уполномоченного по правам человека, действующего в соответствии с федеральным конституционным законом;
е) объявление амнистии;
ж) выдвижение обвинения против Президента Российской Федерации для отрешения его от должности.
2. Государственная Дума принимает постановления по вопросам, отнесенным к ее ведению Конституцией Российской Федерации.
3. Постановления Государственной Думы принимаются большинством голосов от общего числа депутатов Государственной Думы, если иной порядок принятия решений не предусмотрен Конституцией Российской Федерации.
Статья 104
1. Право законодательной инициативы принадлежит Президенту Российской Федерации, Совету Федерации, членам Совета Федерации, депутатам Государственной Думы, Правительству Российской Федерации, законодательным (представительным) органам субъектов Российской Федерации. Право законодательной инициативы принадлежит также Конституционному Суду Российской Федерации, Верховному Суду Российской Федерации и Высшему Арбитражному Суду Российской Федерации по вопросам их ведения.
2. Законопроекты вносятся в Государственную Думу.
3. Законопроекты о введении или отмене налогов, освобождении от их уплаты, о выпуске государственных займов, об изменении финансовых обязательств государства, другие законопроекты, предусматривающие расходы, покрываемые за счет федерального бюджета, могут быть внесены только при наличии заключения Правительства Российской Федерации.
Статья 105
1. Федеральные законы принимаются Государственной Думой.
2. Федеральные законы принимаются большинством голосов от общего числа депутатов Государственной Думы, если иное не предусмотрено Конституцией Российской Федерации.
3. Принятые Государственной Думой федеральные законы в течение пяти дней передаются на рассмотрение Совета Федерации.
4. Федеральный закон считается одобренным Советом Федерации, если за него проголосовало более половины от общего числа членов этой палаты либо если в течение четырнадцати дней он не был рассмотрен Советом Федерации. В случае отклонения федерального закона Советом Федерации палаты могут создать согласительную комиссию для преодоления возникших разногласий, после чего федеральный закон подлежит повторному рассмотрению Государственной Думой.
5. В случае несогласия Государственной Думы с решением Совета Федерации федеральный закон считается принятым, если при повторном голосовании за него проголосовало не менее двух третей от общего числа депутатов Государственной Думы.
Статья 106
Обязательному рассмотрению в Совете Федерации подлежат принятые Государственной Думой федеральные законы по вопросам:
а) федерального бюджета;
б) федеральных налогов и сборов;
в) финансового, валютного, кредитного, таможенного регулирования, денежной эмиссии;
г) ратификации и денонсации международных договоров Российской Федерации;
д) статуса и защиты государственной границы Российской Федерации;
е) войны и мира.
Статья 107
1. Принятый федеральный закон в течение пяти дней направляется Президенту Российской Федерации для подписания и обнародования.
2. Президент Российской Федерации в течение четырнадцати дней подписывает федеральный закон и обнародует его.
3. Если Президент Российской Федерации в течение четырнадцати дней с момента поступления федерального закона отклонит его, то Государственная Дума и Совет Федерации в установленном Конституцией Российской Федерации порядке вновь рассматривают данный закон. Если при повторном рассмотрении федеральный закон будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее двух третей голосов от общего числа членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы, он подлежит подписанию Президентом Российской Федерации в течение семи дней и обнародованию.
Статья 108
1. Федеральные конституционные законы принимаются по вопросам, предусмотренным Конституцией Российской Федерации.
2. Федеральный конституционный закон считается принятым, если он одобрен большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа членов Совета Федерации и не менее двух третей голосов от общего числа депутатов Государственной Думы. Принятый федеральный конституционный закон в течение четырнадцати дней подлежит подписанию Президентом Российской Федерации и обнародованию.
Статья 109
1. Государственная Дума может быть распущена Президентом Российской Федерации в случаях, предусмотренных статьями 111 и 117 Конституции Российской Федерации.
2. В случае роспуска Государственной Думы Президент Российской Федерации назначает дату выборов с тем, чтобы вновь избранная Государственная Дума собралась не позднее чем через четыре месяца с момента роспуска.
3. Государственная Дума не может быть распущена по основаниям, предусмотренным статьей 117 Конституции Российской Федерации, в течение года после ее избрания.
4. Государственная Дума не может быть распущена с момента выдвижения ею обвинения против Президента Российской Федерации до принятия соответствующего решения Советом Федерации.
5. Государственная Дума не может быть распущена в период действия на всей территории Российской Федерации военного или чрезвычайного положения, а также в течение шести месяцев до окончания срока полномочий Президента Российской Федерации.
Глава 6. Правительство Российской Федерации Статья 110
1. Исполнительную власть Российской Федерации осуществляет Правительство Российской Федерации.
2. Правительство Российской Федерации состоит из Председателя Правительства Российской Федерации, заместителей Председателя Правительства Российской Федерации и федеральных министров.
Статья 111
1. Председатель Правительства Российской Федерации назначается Президентом Российской Федерации с согласия Государственной Думы.
2. Предложение о кандидатуре Председателя Правительства Российской Федерации вносится не позднее двухнедельного срока после вступления в должность вновь избранного Президента Российской Федерации или после отставки Правительства Российской Федерации либо в течение недели со дня отклонения кандидатуры Государственной Думой.
3. Государственная Дума рассматривает представленную Президентом Российской Федерации кандидатуру Председателя Правительства Российской Федерации в течение недели со дня внесения предложения о кандидатуре.
4. После трехкратного отклонения представленных кандидатур Председателя Правительства Российской Федерации Государственной Думой Президент Российской Федерации назначает Председателя Правительства Российской Федерации, распускает Государственную Думу и назначает новые выборы.
Статья 112
1. Председатель Правительства Российской Федерации не позднее недельного срока после назначения представляет Президенту Российской Федерации предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти.
2. Председатель Правительства Российской Федерации предлагает Президенту Российской Федерации кандидатуры на должности заместителей Председателя Правительства Российской Федерации и федеральных министров.
Статья 113
Председатель Правительства Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и указами Президента Российской Федерации определяет основные направления деятельности Правительства Российской Федерации и организует его работу.
Статья 114
1. Правительство Российской Федерации:
а) разрабатывает и представляет Государственной Думе федеральный бюджет и обеспечивает его исполнение; представляет Государственной Думе отчет об исполнении федерального бюджета;
б) обеспечивает проведение в Российской Федерации единой финансовой, кредитной и денежной политики;
в) обеспечивает проведение в Российской Федерации единой государственной политики в области культуры, науки, образования, здравоохранения, социального обеспечения, экологии;
г) осуществляет управление федеральной собственностью;
д) осуществляет меры по обеспечению обороны страны, государственной безопасности, реализации внешней политики Российской Федерации;
е) осуществляет меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью;
ж) осуществляет иные полномочия, возложенные на него Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации.
2. Порядок деятельности Правительства Российской Федерации определяется федеральным конституционным законом.
Статья 115
1. На основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных законов, нормативных указов Президента Российской Федерации Правительство Российской Федерации издает постановления и распоряжения, обеспечивает их исполнение.
2. Постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации обязательны к исполнению в Российской Федерации.
3. Постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации в случае их противоречия Конституции Российской Федерации, федеральным законам и указам Президента Российской Федерации могут быть отменены Президентом Российской Федерации.
Статья 116
Перед вновь избранным Президентом Российской Федерации Правительство Российской Федерации слагает свои полномочия.
Статья 117
1. Правительство Российской Федерации может подать в отставку, которая принимается или отклоняется Президентом Российской Федерации.
2. Президент Российской Федерации может принять решение об отставке Правительства Российской Федерации.
3. Государственная Дума может выразить недоверие Правительству Российской Федерации. Постановление о недоверии Правительству Российской Федерации принимается большинством голосов от общего числа депутатов Государственной Думы. После выражения Государственной Думой недоверия Правительству Российской Федерации Президент Российской Федерации вправе объявить об отставке Правительства Российской Федерации либо не согласиться с решением Государственной Думы. В случае если Государственная Дума в течение трех месяцев повторно выразит недоверие Правительству Российской Федерации, Президент Российской Федерации объявляет об отставке Правительства либо распускает Государственную Думу.
4. Председатель Правительства Российской Федерации может поставить перед Государственной Думой вопрос о доверии Правительству Российской Федерации. Если Государственная Дума в доверии отказывает, Президент в течение семи дней принимает решение об отставке Правительства Российской Федерации или о роспуске Государственной Думы и назначении новых выборов.
5. В случае отставки или сложения полномочий Правительство Российской Федерации по поручению Президента Российской Федерации продолжает действовать до сформирования нового Правительства Российской Федерации.
Глава 7. Судебная власть Статья 118
1. Правосудие в Российской Федерации осуществляется только судом.
2. Судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства.
3. Судебная система Российской Федерации устанавливается Конституцией Российской Федерации и федеральным конституционным законом. Создание чрезвычайных судов не допускается.
Статья 119
Судьями могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 25 лет, имеющие высшее юридическое образование и стаж работы по юридической профессии не менее пяти лет. Федеральным законом могут быть установлены дополнительные требования к судьям судов Российской Федерации.
Статья 120
1. Судьи независимы и подчиняются только Конституции Российской Федерации и федеральному закону.
2. Суд, установив при рассмотрении дела несоответствие акта государственного или иного органа закону, принимает решение в соответствии с законом.
Статья 121
1. Судьи несменяемы.
2. Полномочия судьи могут быть прекращены или приостановлены не иначе как в порядке и по основаниям, установленным федеральным законом.
Статья 122
1. Судьи неприкосновенны.
2. Судья не может быть привлечен к уголовной ответственности иначе как в порядке, определяемом федеральным законом.
Статья 123
1. Разбирательство дел во всех судах открытое. Слушание дела в закрытом заседании допускается в случаях, предусмотренных федеральным законом.
2. Заочное разбирательство уголовных дел в судах не допускается, кроме случаев, предусмотренных федеральным законом.
3. Судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон.
4. В случаях, предусмотренных федеральным законом, судопроизводство осуществляется с участием присяжных заседателей.
Статья 124
Финансирование судов производится только из федерального бюджета и должно обеспечивать возможность полного и независимого осуществления правосудия в соответствии с федеральным законом.
Статья 125
1. Конституционный Суд Российской Федерации состоит из 19 судей.
2. Конституционный Суд Российской Федерации по запросам Президента Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, одной пятой членов Совета Федерации или депутатов Государственной Думы, Правительства Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, органов законодательной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации разрешает дела о соответствии Конституции Российской Федерации:
а) федеральных законов, нормативных актов Президента Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства Российской Федерации;
б) конституций республик, уставов, а также законов и иных нормативных актов субъектов Российской Федерации, изданных по вопросам, относящимся к ведению органов государственной власти Российской Федерации и совместному ведению органов государственной власти Российской Федерации и органов государственной власти субъектов Российской Федерации;
в) договоров между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, договоров между органами государственной власти субъектов Российской Федерации;
г) не вступивших в силу международных договоров Российской Федерации.
3. Конституционный Суд Российской Федерации разрешает споры о компетенции:
а) между федеральными органами государственной власти;
б) между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации;
в) между высшими государственными органами субъектов Российской Федерации.
4. Конституционный Суд Российской Федерации по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан и по запросам судов проверяет конституционность закона, примененного или подлежащего применению в конкретном деле, в порядке, установленном федеральным законом.
5. Конституционный Суд Российской Федерации по запросам Президента Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства Российской Федерации, органов законодательной власти субъектов Российской Федерации дает толкование Конституции Российской Федерации.
6. Акты или их отдельные положения, признанные неконституционными, утрачивают силу; не соответствующие Конституции Российской Федерации международные договоры Российской Федерации не подлежат введению в действие и применению.
7. Конституционный Суд Российской Федерации по запросу Совета Федерации дает заключение о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения Президента Российской Федерации в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления.
Статья 126
Верховный Суд Российской Федерации является высшим судебным органом по гражданским, уголовным, административным и иным делам, подсудным судам общей юрисдикции, осуществляет в предусмотренных федеральным законом процессуальных формах судебный надзор за их деятельностью и дает разъяснения по вопросам судебной практики.
Статья 127
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации является высшим судебным органом по разрешению экономических споров и иных дел, рассматриваемых арбитражными судами, осуществляет в предусмотренных федеральным законом процессуальных формах судебный надзор за их деятельностью и дает разъяснения по вопросам судебной практики.
Статья 128
1. Судьи Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации назначаются Советом Федерации по представлению Президента Российской Федерации.
2. Судьи других федеральных судов назначаются Президентом Российской Федерации в порядке, установленном федеральным законом.
3. Полномочия, порядок образования и деятельности Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и иных федеральных судов устанавливаются федеральным конституционным законом.
Статья 129
1. Прокуратура Российской Федерации составляет единую централизованную систему с подчинением нижестоящих прокуроров вышестоящим и Генеральному прокурору Российской Федерации.
2. Генеральный прокурор Российской Федерации назначается на должность и освобождается от должности Советом Федерации по представлению Президента Российской Федерации.
3. Прокуроры субъектов Российской Федерации назначаются Генеральным прокурором Российской Федерации по согласованию с ее субъектами.
4. Иные прокуроры назначаются Генеральным прокурором Российской Федерации.
5. Полномочия, организация и порядок деятельности прокуратуры Российской Федерации определяются федеральным законом.
Глава 8. Местное самоуправление Статья 130
1. Местное самоуправление в Российской Федерации обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов местного значения, владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью.
2. Местное самоуправление осуществляется гражданами путем референдума, выборов, других форм прямого волеизъявления, через выборные и другие органы местного самоуправления.
Статья 131
1. Местное самоуправление осуществляется в городских, сельских поселениях и на других территориях с учетом исторических и иных местных традиций. Структура органов местного самоуправления определяется населением самостоятельно.
2. Изменение границ территорий, в которых осуществляется местное самоуправление, допускается с учетом мнения населения соответствующих территорий.
Статья 132
1. Органы местного самоуправления самостоятельно управляют муниципальной собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, устанавливают местные налоги и сборы, осуществляют охрану общественного порядка, а также решают иные вопросы местного значения.
2. Органы местного самоуправления могут наделяться законом отдельными государственными полномочиями с передачей необходимых для их осуществления материальных и финансовых средств. Реализация переданных полномочий подконтрольна государству.
Статья 133
Местное самоуправление в Российской Федерации гарантируется правом на судебную защиту, на компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти, запретом на ограничение прав местного самоуправления, установленных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами.
Глава 9. Конституционные поправки и пересмотр Конституции
Статья 134
Предложения о поправках и пересмотре положений Конституции Российской Федерации могут вносить Президент Российской Федерации, Совет Федерации, Государственная Дума, Правительство Российской Федерации, законодательные (представительные) органы субъектов Российской Федерации, а также группа численностью не менее одной пятой членов Совета Федерации или депутатов Государственной Думы.
Статья 135
1. Положения глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации не могут быть пересмотрены Федеральным Собранием.
2. Если предложение о пересмотре положений глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации будет поддержано тремя пятыми голосов от общего числа членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы, то в соответствии с федеральным конституционным законом созывается Конституционное Собрание.
3. Конституционное Собрание либо подтверждает неизменность Конституции Российской Федерации, либо разрабатывает проект новой Конституции Российской Федерации, который принимается Конституционным Собранием двумя третями голосов от общего числа его членов или выносится на всенародное голосование. При проведении всенародного голосования Конституция Российской Федерации считается принятой, если за нее проголосовало более половины избирателей, принявших участие в голосовании, при условии, что в нем приняло участие более половины избирателей.
Статья 136
Поправки к главам 3—8 Конституции Российской Федерации принимаются в порядке, предусмотренном для принятия федерального конституционного закона, и вступают в силу после их одобрения органами законодательной власти не менее чем двух третей субъектов Российской Федерации.
Статья 137
1. Изменения в статью 65 Конституции Российской Федерации, определяющую состав Российской Федерации, вносятся на основании федерального конституционного закона о принятии в Российскую Федерацию и образовании в ее составе нового субъекта Российской Федерации, об изменении конституционно-правового статуса субъекта Российской Федерации.
2. В случае изменения наименования республики, края, области, города федерального значения, автономной области, автономного округа новое наименование субъекта Российской Федерации подлежит включению в статью 65 Конституции Российской Федерации.
Приложение 2. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН. «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов российской федерации» (извлечения)
(В редакции Федеральных законов:
от 29 июля 2000 г. № 106-ФЗ,
от 8 февраля 2001 года № 3-ФЗ,
от 7 мая 2002 года № 47-ФЗ,
от 24 июля 2002 года № 107-ФЗ,
от 11 декабря 2002 г. № 169-ФЗ
и от 4 июля 2003 г. № 95-ФЗ)
Принят Государственной Думой 22 сентября 1999 года
Система законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации устанавливается ими самостоятельно в соответствии с основами конституционного строя Российской Федерации и настоящим Федеральным законом.
Образование, формирование, деятельность законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, их полномочия и ответственность, порядок взаимодействия между собой и с федеральными органами государственной власти основываются на Конституции Российской Федерации и регулируются федеральными конституционными законами, настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами, конституциями (уставами), законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации (в редакции Федерального Закона от 4 июля 2003 года № 95-ФЗ).
В настоящем Федеральном законе термины «исполнительные органы государственной власти субъекта Российской Федерации» и «органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации» используются в одном значении.
Глава I. Общие положения Статья 1. Принципы деятельности органов государственной власти субъекта Российской Федерации
1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации деятельность органов государственной власти субъекта Российской Федерации осуществляется в соответствии со следующими принципами:
а) государственная и территориальная целостность Российской Федерации;
б) распространение суверенитета Российской Федерации на всю ее территорию;
в) верховенство Конституции Российской Федерации и федеральных законов на всей территории Российской Федерации;
г) единство системы государственной власти;
д) разделение государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную в целях обеспечения сбалансированности полномочий и исключения сосредоточения всех полномочий или большей их части в ведении одного органа государственной власти либо должностного лица;
е) разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации;
ж) самостоятельное осуществление органами государственной власти субъектов Российской Федерации принадлежащих им полномочий;
з) самостоятельное осуществление своих полномочий органами местного самоуправления.
2.Органы государственной власти субъекта Российской Федерации обеспечивают реализацию прав граждан на участие в управлении делами государства как непосредственно, так и через своих представителей, в том числе путем законодательного закрепления гарантий своевременного назначения даты выборов в органы государственной власти субъекта Российской Федерации и органы местного самоуправления и гарантий периодического проведения указанных выборов.
3.Органы государственной власти субъекта Российской Федерации содействуют развитию местного самоуправления на территории субъекта Российской Федерации.
4.Полномочия органов государственной власти субъекта Российской Федерации устанавливаются Конституцией Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, конституцией (уставом) и законами субъекта Российской Федерации и могут быть изменены только путем внесения соответствующих поправок в Конституцию Российской Федерации и (или) пересмотра ее положений, путем внесения соответствующих изменений и (или) дополнений в настоящий Федеральный закон, путем принятия новых федеральных законов, конституции (устава) и законов субъекта Российской Федерации либо путем внесения соответствующих изменений и (или) дополнений в указанные действующие акты.
5.Разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляется Конституцией Российской Федерации, Федеративным договором и иными договорами о разграничении предметов ведения и полномочий, заключенными в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными законами. Общие принципы и порядок разграничения предметов ведения и полномочий путем заключения договоров о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации (далее — договоры о разграничении полномочий) и принятия федеральных законов устанавливаются настоящим Федеральным законом.
6.В соответствии с Конституцией Российской Федерации федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации могут по взаимному соглашению передавать друг другу осуществление части своих полномочий, если это не противоречит Конституции Российской Федерации, настоящему Федеральному закону и другим федеральным законам.
(Статья в редакции Федерального Закона от 4 июля 2003 года № 95-ФЗ)
Статья 2. Система органов государственной власти субъекта Российской Федерации
Систему органов государственной власти субъекта Российской Федерации составляют: законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации; высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации; иные органы государственной власти субъекта Российской Федерации, образуемые в соответствии с конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации.
Конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации может быть установлена должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации.
Статья 3. Обеспечение верховенства Конституции Российской Федерации и федерального законодательства
1. Федеральными законами, договорами о разграничении полномочий, соглашениями о передаче осуществления части полномочий между федеральными органами исполнительной власти и исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации (далее — соглашения), конституциями (уставами), законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации не могут передаваться, исключаться или иным образом перераспределяться установленные Конституцией Российской Федерации предметы ведения Российской Федерации, предметы совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации (далее — предметы совместного ведения), а также предметы ведения субъектов Российской Федерации. В случае противоречия Конституции Российской Федерации положений указанных актов действуют положения Конституции Российской Федерации.
Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации не могут противоречить федеральным законам, принятым по предметам ведения Российской Федерации и предметам совместного ведения. В случае противоречия между федеральным законом и иным актом, изданным в Российской Федерации, действует федеральный закон.
2. Субъекты Российской Федерации вправе осуществлять собственное правовое регулирование по предметам совместного ведения до принятия федеральных законов. После принятия соответствующего федерального закона законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации подлежат приведению в соответствие с данным федеральным законом в течение трех месяцев.
3. Если орган государственной власти субъекта Российской Федерации полагает, что федеральный закон не соответствует Конституции Российской Федерации, нормативный правовой акт федерального органа государственной власти не соответствует положениям Конституции Российской Федерации, федеральных законов или договоров о разграничении полномочий, устанавливающим разграничение предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, спор о компетенции либо вопрос о соответствии федерального закона Конституции Российской Федерации, соответствии нормативного правового акта федерального органа государственной власти Конституции Российской Федерации, федеральным законам или договорам о разграничении полномочий разрешается соответствующим судом. До вступления в силу решения суда о признании федерального закона или отдельных его положений не соответствующими Конституции Российской Федерации, нормативного правового акта федерального органа государственной власти или отдельных его положений не соответствующими Конституции Российской Федерации, федеральным законам или договорам о разграничении полномочий принятие законов и иных нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, противоречащих соответствующим положениям федерального закона, нормативного правового акта федерального органа государственной власти, не допускается.
(Статья в редакции Федерального Закона от 4 июля 2003 года М 95-ФЗ)
Статья 31. Ответственность органов государственной власти субъектов Российской Федерации
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации несут ответственность за нарушение Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов и федеральных законов, а также обеспечивают соответствие Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам и федеральным законам принимаемых (принятых) ими конституций и законов республик, уставов, законов и иных нормативных правовых актов краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов и осуществляемой ими деятельности.
В случае принятия органами государственной власти субъектов Российской Федерации нормативных правовых актов, противоречащих Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам и федеральным законам и повлекших за собой массовые и грубые нарушения прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и территориальной целостности Российской Федерации, национальной безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности, единству правового и экономического пространства Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации несут ответственность в соответствии с Конституцией Российской Федерации и настоящим Федеральным законом.
(Статья дополнительно включена Федеральным Законом от 29 июля 2000 года № 106-ФЗ)
Глава П. Законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации Статья 4. Основы статуса законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации
1.Законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации является постоянно действующим высшим и единственным органом законодательной власти субъекта Российской Федерации.
2.Наименование законодательного (представительного)'органа государственной власти субъекта Российской Федерации, его структура устанавливаются конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации с учетом исторических, национальных и иных традиций субъекта Российской Федерации.
3.Число депутатов законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации устанавливается конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации (далее - установленное число депутатов).
4.Не менее 50 процентов депутатов законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации (в двухпалатном законодательном (представительном) органе государственной власти субъекта Российской Федерации — не менее 50 процентов депутатов одной из палат указанного органа) должны избираться по единому избирательному округу пропорционально числу голосов, поданных за списки кандидатов в депутаты, выдвинутые избирательными объединениями, избирательными блоками в соответствии с законодательством о выборах (пункт дополнительно включен Федеральным Законом от 24 июля 2002 года № 107-ФЗ).
5.Срок полномочий депутатов законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации (далее, если не оговорено особо, — депутаты) одного созыва устанавливается конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации и не может превышать пять лет.
6.Число депутатов, работающих на профессиональной постоянной основе, устанавливается законом субъекта Российской Федерации.
7.Законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации обладает правами юридического лица, имеет гербовую печать.
8.Законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации самостоятельно решает вопросы организационного, правового, информационного, материально-технического и финансового обеспечения своей деятельности.
9.Расходы на обеспечение деятельности законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации предусматриваются в бюджете субъекта Российской Федерации отдельно от других расходов в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.
Управление и (или) распоряжение законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта Российской Федерации или отдельными депутатами (группами депутатов) средствами бюджета субъекта Российской Федерации в какой бы то ни было форме в процессе исполнения бюджета субъекта Российской Федерации не допускаются, за исключением средств на обеспечение деятельности законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации и (или) депутатов. При этом полномочия законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации по осуществлению контроля за исполнением бюджета субъекта Российской Федерации не ограничиваются. <...>
Статья 5. Основные полномочия законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации
1. Законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации:
а) принимает конституцию субъекта Российской Федерации и поправки к ней, если иное не установлено конституцией субъекта Российской Федерации, принимает устав субъекта Российской Федерации и поправки к нему;
б) осуществляет законодательное регулирование по предметам ведения субъекта Российской Федерации и предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в пределах полномочий субъекта Российской Федерации;
в) осуществляет иные полномочия, установленные Конституцией Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, конституцией (уставом) и законами субъекта Российской Федерации.
2. Законом субъекта Российской Федерации:
а) утверждается бюджет субъекта Российской Федерации и отчет о его исполнении, представленные высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации, а в случае если указанная должность не установлена, то руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации (далее — высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации — руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации);
б) Подпункт исключен Федеральным Законом от 4 июля 2003 года № 95-ФЗ;
в) в пределах полномочий, определенных федеральным законом, устанавливается порядок проведения выборов в органы местного самоуправления на территории субъекта Российской Федерации (в редакции Федерального Закона от 4 июля 2003 года № 95-ФЗ);
г) утверждаются программы социально-экономического развития субъекта Российской Федерации, представленные высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации);
д) устанавливаются налоги и сборы, установление которых
отнесено федеральным законом к ведению субъекта Российской Федерации, а также порядок их взимания;
е) утверждаются бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов субъекта Российской Федерации и отчеты об их исполнении (в редакции Федерального Закона от 7 мая 2002 года № 47-ФЗ);
ж) устанавливается порядок управления и распоряжения собственностью субъекта Российской Федерации, в том числе долями (паями, акциями) субъекта Российской Федерации в капиталах хозяйственных обществ, товариществ и предприятий иных организационно-правовых форм;
з) утверждаются заключение и расторжение договоров субъекта Российской Федерации;
и) устанавливается порядок назначения и проведения референдума субъекта Российской Федерации;
к) устанавливается порядок проведения выборов в законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации, а также выборов высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации);
л) устанавливается административно-территориальное устройство субъекта Российской Федерации и порядок его изменения;
м) устанавливается структура исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации;
н) регулируются иные вопросы, относящиеся в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, конституцией (уставом) и законами субъекта Российской Федерации к ведению и полномочиям субъекта Российской Федерации.
3. Постановлением законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации:
а) принимается регламент указанного органа и решаются вопросы внутреннего распорядка его деятельности;
б) назначаются на должность и освобождаются от должности отдельные должностные лица субъекта Российской Федерации, оформляется согласие на их назначение на должность, если такой порядок назначения предусмотрен Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации;
в) назначается дата выборов в законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации, а также дата выборов высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации);
г) назначается референдум субъекта Российской Федерации в случаях, предусмотренных законом субъекта Российской Федерации;
д) оформляется решение о недоверии (доверии) высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), а также решение о недоверии (доверии) руководителям органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в назначении которых на должность законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации принимал участие в соответствии с конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации;
е) утверждается соглашение об изменении границ субъектов Российской Федерации;
ж) одобряется проект договора о разграничении полномочий;
з) назначаются на должность судьи конституционного (уставного) суда субъекта Российской Федерации;
и) оформляются (в редакции Федерального Закона от 4 июля 2003 года № 95-ФЗ) иные решения по вопросам, отнесенным Конституцией Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, конституцией (уставом) и законами субъекта Российской Федерации к ведению законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации.
4. Законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации в пределах и формах, установленных конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации и законами субъекта Российской Федерации:
а) осуществляет наряду с другими уполномоченными на то органами контроль за соблюдением и исполнением законов субъекта Российской Федерации, исполнением бюджета субъекта Российской Федерации, исполнением бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов субъекта Российской Федерации (в редакции Федерального Закона от 11 декабря 2002 года № 169-ФЗ), соблюдением установленного порядка распоряжения собственностью субъекта Российской Федерации;
б) осуществляет иные полномочия, установленные Конституцией Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, конституцией (уставом) и законами субъекта Российской Федерации.
Статья 6. Право законодательной инициативы в законодательном (представительном) органе государственной власти субъекта Российской Федерации
1. Право законодательной инициативы в законодательном (представительном) органе государственной власти субъекта Российской Федерации принадлежит депутатам, высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), представительным органам местного самоуправления. Конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации право законодательной инициативы может быть предоставлено иным органам, общественным объединениям, а также гражданам, проживающим на территории данного субъекта Российской Федерации.
2. Законопроекты, внесенные в законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), рассматриваются по его предложению в первоочередном порядке.
3. Законопроекты о введении или об отмене налогов, освобождении от их уплаты, изменении финансовых обязательств субъекта Российской Федерации, другие законопроекты, предусматривающие расходы, покрываемые за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, рассматриваются законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта Российской Федерации по представлению высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) либо при наличии заключения указанного лица. Данное заключение представляется в законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации в срок, который устанавливается конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации и не может быть менее двадцати (в редакции Федерального Закона от 4 июля 2003 года № 95-ФЗ) календарных дней.
Статья 8. Порядок обнародования и вступления в силу нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации
1.Законы субъекта Российской Федерации, принятые законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта Российской Федерации, направляются указанным органом для обнародования высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в срок, который устанавливается конституцией (уставом) и законом субъекта Российской Федерации.
2.Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) обязано (обязан) обнародовать конституцию (устав), закон субъекта Российской Федерации, удостоверив обнародование закона путем его подписания или издания специального акта, либо отклонить закон в срок, который устанавливается конституцией (уставом) и законом субъекта Российской Федерации и не должен превышать четырнадцать календарных дней с момента поступления указанного закона. Порядок обнародования конституции (устава), закона субъекта Российской Федерации устанавливается конституцией (уставом) и законом субъекта Российской Федерации. В случае отклонения закона субъекта Российской Федерации высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) отклоненный закон возвращается в законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации с мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложением о внесении в него изменений и дополнений (в редакции Федерального Закона от 4 июля 2003 года № 95-ФЗ).
3. В случае отклонения высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) закона субъекта Российской Федерации указанный закон может быть одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее двух третей голосов от установленного числа депутатов.
4. Закон субъекта Российской Федерации, одобренной в ранее принятой редакции, не может быть повторно отклонен высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) и подлежит обнародованию в срок, установленный конституцией (уставом) и законом субъекта Российской Федерации.
5. Конституция (устав) и закон субъекта Российской Федерации вступают в силу после их официального опубликования. Законы и иные нормативные правовые акты субъекта Российской Федерации по вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина вступают в силу не ранее чем через десять пней после их официального опубликования.
6. Конституция Российской Федерации, федеральные законы, конституция (устав) и законы субъекта Российской Федерации подлежат государственной защите на территории субъекта Российской Федерации.
Статья 9. Порядок досрочного прекращения полномочий законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта российской Федерации
1. Полномочия законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации могут быть прекращены досрочно в случае:
а) принятия указанным органом решения о самороспуске, при этом решение о самороспуске принимается в порядке, предусмотренном конституцией (уставом) или законом субъекта Российской Федерации;
б) роспуска указанного органа высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) по основаниям, предусмотренным пунктом 2 настоящей статьи;
в) вступления в силу решения соответственно верховного суда республики суда края области, города федерального значения, автономной области, автономного округа о неправомочности данного составе, депутатов законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, в том числе в связи со сложением депутатами своих полномочий.
г) роспуска указанного органа в порядке и по основаниям; предусмотренным пунктом 4 настоящей статьи (в редакции Федерального Закона от 29 июля 2000 года № 106-ФЗ).
2. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации в случае принятия данным органом конституции (устава) и закона субъекта Российской Федерации, иного нормативного правового акта, противоречащих Конституции Российской Федерации, федеральным законам, принятым по предметам ведения Российской Федерации и предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, конституции (уставу) субъекта Российской Федерации, если такие противоречия установлены соответствующим судом, а законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации не устранил их в течение шести месяцев со дня вступления в силу судебного решения.
3. Решение высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) о досрочном прекращении полномочий законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации принимается в форме указа (постановления).
4. В случае, если соответствующим судом установлено, что законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта Российской Федерации приняты конституция (устав), закон субъекта Российской Федерации или иной нормативный правовой акт, противоречащие Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам и федеральным законам, а законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации в течение шести месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда срока не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда, в том числе не отменил нормативный правовой акт, признанный соответствующим судом противоречащим федеральному закону и недействующим, и после истечения данного срока судом установлено, что в результате уклонения законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации от принятия в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда были созданы препятствия для реализации закрепленных Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами и федеральными законами полномочий федеральных органов государственной власти, органов местного самоуправления, нарушены права и свободы человека и гражданина, права и охраняемые законом интересы юридических лиц, Президент Российской Федерации выносит предупреждение законодательному (представительному) органу государственной власти субъекта Российской Федерации.
Решение Президента Российской Федерации о предупреждении законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации принимается в форме указа.
Если в течение трех месяцев со дня вынесения Президентом Российской Федерации предупреждения законодательному (представительному) органу государственной власти субъекта Российской Федерации указанный орган не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда, Президент Российской Федерации вносит в Государственную Думу проект федерального закона о роспуске законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации. Государственная Дума в течение двух месяцев обязана рассмотреть указанный проект федерального закона.
Полномочия законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации прекращаются со дня вступления в силу федерального закона о роспуске законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации.
Срок, в течение которого Президент Российской Федерации выносит предупреждение законодательному (представительному) органу государственной власти субъекта Российской Федерации или вносит в Государственную Думу проект федерального закона о роспуске законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, не может превышать один год со дня вступления в силу решения суда (пункт дополнительно включен Федеральным Законом от 29 июля 2000 года № 106-ФЗ).
Статья 10. Принципы избрания законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации
1.Депутаты избираются гражданами Российской Федерации, проживающими на территории субъекта Российской Федерации и обладающими в соответствии с федеральным законом активным избирательным правом.
2.Депутатом может быть избран гражданин Российской Федерации, обладающий в соответствии с федеральным законом, конституцией (уставом) и (или) законом субъекта Российской Федерации пассивным избирательным правом.
3.Выборы проводятся на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
4.Статус депутата, срок его полномочий, порядок подготовки и проведения выборов регулируются настоящим Федеральным законом, другими (федеральными законами, конституцией (уставом) и законами субъекта Российской Федерации.
Статья 11. Условия осуществления депутатом депутатской деятельности
Условия осуществления депутатом депутатской деятельности (на профессиональной постоянной основе, или на профессиональной основе в определенный период, или без отрыва от основной деятельности) устанавливаются конституцией (уставом) и (или) законом субъекта Российской Федерации.
Статья 12. Ограничения, связанные с депутатской деятельностью
В течение срока своих полномочий депутат не может быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (в редакции Федерального Закона от 7 мая 2002 года № 47-ФЗ), членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (в редакции Федерального Закона от 4 июля 2003 года № 95-ФЗ) судьей, замещать иные государственные должности Российской Федерации, государственные должности федеральной государственной службы, иные государственные должности субъекта Российской Федерации или государственные должности государственной службы субъекта Российской Федерации, а также выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы, если иное не предусмотрено федеральным законом (в редакции Федерального Закона от 7 мая 2002 года № 47-ФЗ).
В случае, если деятельность депутата осуществляется на профессиональной постоянной основе, указанный депутат не может заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Депутат не вправе использовать свой статус для деятельности, не связанной с осуществлением депутатских полномочий.
Глава III. Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации Статья 17. Система органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации
1.В субъекте Российской Федерации устанавливается система органов исполнительной власти во главе с высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, возглавляемым руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации.
2.Конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации может устанавливаться должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации возглавляет высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации.
3.В соответствии с Конституцией Российской Федерации в пределах ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации образуют единую систему исполнительной власти в Российской Федерации.
4. Перечень исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации определяется высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в соответствии с конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации (пункт дополнительно включен Федеральным Законом от 4 июля 2003 года № 95-ФЗ).
Статья 18. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации)
1. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) избирается гражданами Российской Федерации, проживающими на территории субъекта Российской Федерации и обладающими в соответствии с федеральным законом активным избирательным правом, на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании, за исключением случаев, когда на день вступления в силу настоящего Федерального закона конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации предусмотрено наделение гражданина полномочиями высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) путем избрания его специально созываемым собранием представителей.
4. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) не может быть одновременно депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, судьей, замещать иные государственные должности Российской Федерации, государственные должности федеральной государственной службы, иные государственные должности субъекта Российской Федерации или государственные должности государственной службы субъекта Российской Федерации, а также выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы (в редакции Федерального Закона от 4 июля 2003 года № 95-ФЗ), не может заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
5.Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) избирается на срок не более пяти лет и не может избираться на указанную должность более двух сроков подряд.
6.Наименование должности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) устанавливается конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации с учетом исторических, национальных и иных традиций данного субъекта Российской Федерации.
7.Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации):
а) представляет субъект Российской Федерации в отношениях с федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и при осуществлении внешнеэкономических связей, при этом вправе подписывать договоры и соглашения от имени субъекта Российской Федерации;
б) обнародует законы, удостоверяя их обнародование путем подписания законов или издания специальных актов, либо отклоняет законы, принятые законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта Российской Федерации;
в) формирует высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации;
г) вправе требовать созыва внеочередного заседания законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, а также созывать вновь избранный законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации на первое заседание ранее срока, установленного для этого законодательному (представительному) органу государственной власти субъекта Российской Федерации конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации;
д) вправе участвовать в работе законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации с правом совещательного голоса;
е) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, конституцией (уставом)и законами субъекта Российской Федерации.
8. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) при осуществлении своих полномочий обязано соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, конституцию (устав) и законы субъекта Российской Федерации, а также исполнять указы Президента Российской Федерации и постановления Правительства Российской Федерации.
Статья 19. Досрочное прекращение полномочий высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации)
1. Полномочия высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) прекращаются досрочное случае:
а) его смерти;
б) его отставки в связи с выражением ему недоверия законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта Российской Федерации;
в) его отставки по собственному желанию;
г) отрешения его от должности Президентом Российской Федерации (подпункт дополнительно включен Федеральным Законом от 29 июля 2000 года № 106-ФЗ);
д) признания его судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
е) признания его судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
ж) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
з) его выезда за пределы Российской Федерации на постоянное
место жительства;
и) утраты им гражданства Российской Федерации;
к) его отзыва избирателями субъекта Российской Федерации на основаниях и в порядке, установленных настоящим Федеральным законом, если такой отзыв предусмотрен конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации.
2. Законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации вправе выразить недоверие высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в случае:
издания им актов, противоречащих Конституции Российской Федерации, федеральным законам, конституции (уставу) и законам субъекта Российской Федерации, если такие противоречия установлены соответствующим судом, а высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) не устранит указанные противоречия в течение месяца со дня вступления в силу судебного решения;
установленного соответствующим судом иного грубого (в редакции Федерального Закона от 4 июля 2003 года № 95-ФЗ) нарушения Конституции Российской Федерации, федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, конституции (устава) и законов субъекта Российской Федерации, если это повлекло за собой массовое нарушение прав и свобод граждан.
3. Решение законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации о недоверии высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) принимается двумя третями голосов от установленного числа депутатов по инициативе не менее одной трети от установленного числа депутатов.
5. Решение законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации о недоверии высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) влечет за собой немедленную отставку высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) и возглавляемого им высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации.
6. Решение Президента Российской Федерации об отрешении высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) от должности влечет за собой отставку возглавляемого указанным лицом высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации (пункт дополнительно включен Федеральным Законом от 29 июля 2000 года № 106-ФЗ).
7. В случае отставки высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, предусмотренной пунктами 5 и 6 (в редакции Федерального Закона от 29 июля 2000 года № 106-ФЗ) настоящей статьи, он продолжает действовать до сформирования нового высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации.
8. В законе субъекта Российской Федерации, регулирующем отзыв высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), должны устанавливаться основания и процедура отзыва.
Отзыв высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) возможен по одному из следующих оснований: нарушение высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) законодательства Российской Федерации и (или) законодательства субъекта Российской Федерации, факт совершения которого установлен соответствующим судом. Отзыв по данному основанию не освобождает высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российском Федерации) от иной ответственности, предусмотренной федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации; неоднократное без уважительных причин неисполнение высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) своих обязанностей, установленное соответствующим судом.
При наличии указанных оснований голосование по отзыву высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) может быть назначено при условии, что собраны подписи не менее 3 процентов от числа избирателей, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации. Процедура отзыва должна обеспечить гражданам Российской Федерации, которые обладают активным избирательным правом на выборах высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) (далее — участники голосования), возможность проведения агитации за отзыв высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) и против такого отзыва, а также гарантировать участникам голосования всеобщее равное и прямое участие в тайном голосовании по отзыву высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации).
Отзываемое лицо должно быть проинформировано инициаторами его отзыва, избирательной комиссией субъекта Российской Федерации, действующей в качестве комиссии по отзыву, или законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта Российской Федерации о времени и месте рассмотрения вопроса об отзыве, а также должно иметь возможность дать участникам голосования объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания отзыва. На всех этапах осуществления отзыва отзываемым лицом может быть использовано право на защиту чести и достоинства, гражданских прав и свобод в суде.
Отзыв признается состоявшимся, если за него проголосовало более половины от числа участников голосования, включенных в списки для голосования по отзыву высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) (пункт дополнительно включен Федеральным Законом от 4 июля 2003 года № 95-ФЗ).
Статья 20. Основы деятельности высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации
1. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации является постоянно действующим органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
2. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации обеспечивает исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, конституции (устава), законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации на территории субъекта Российской Федерации.
3. Наименование высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, его структура, порядок его сформирования устанавливаются конституцией (уставом) и законами субъекта Российской Федерации с учетом исторических, национальных и иных традиций субъекта Российской Федерации.
4. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации обладает правами юридического лица, имеет гербовую печать.
5. Финансирование высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации и возглавляемых им органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации осуществляется за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, предусмотренных отдельной статьей.
Статья 21. Основные полномочия высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации
1. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации разрабатывает и осуществляет меры по обеспечению комплексного социально-экономического развития субъекта Российской Федерации, участвует в проведении единой государственной политики в области финансов, науки, образования, здравоохранения, социального обеспечения и экологии.
2. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации:
а) осуществляет в пределах своих полномочий меры по реализации, обеспечению и защите прав и свобод человека и гражданина, охране собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью;
б) разрабатывает для представления высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации проект бюджета субъекта Российской Федерации, а также проекты программ социально-экономического развития субъекта Российской Федерации;
в) обеспечивает исполнение бюджета субъекта Российской Федерации и готовит отчет об исполнении указанного бюджета и отчеты о выполнении программ социально-экономического развития субъекта Российской Федерации для представления их высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации;
г) формирует иные органы исполнительной власти субъекта Российской федерации;
д) управляет и распоряжается собственностью субъекта Российской Федерации в соответствии с законами субъекта Российской Федерации, а также федеральной собственностью, переданной в управление субъекту Российской Федерации в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
е) вправе предложить органу местного самоуправления, выборному или иному должностному лицу местного самоуправления привести в соответствие с законодательством Российской Федерации изданные ими правовые акты в случае, если указанные акты противоречат Конституции Российской Федерации, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, конституции (уставу), законам и иным нормативным правовым актам субъекта Российской Федерации, а также вправе обратиться в суд;
ж) Исключен Федеральным Законом от 4 июля 2003 года № 95-ФЗ;
з) осуществляет иные полномочия, установленные федеральными законами, конституцией (уставом) и законами субъекта Российской Федерации, а также соглашениями с федеральными органами исполнительной власти, предусмотренными статьей 78 Конституции Российской Федерации.
Статья 22. Акты высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), акты высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации
1.Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных законов, нормативных актов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, конституции (устава) и законов субъекта Российской Федерации издает указы (постановления) и распоряжения.
2.Акты высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) и акты высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, принятые в пределах их полномочий, обязательны к исполнению в субъекте Российской Федерации.
3.Акты высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), акты высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации не должны противоречить Конституции Российской Федерации, федеральным законам, принятым по предметам ведения Российской Федерации и предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, указам Президента Российской Федерации, постановлениям Правительства Российской Федерации, конституции (уставу) и законам субъекта Российской Федерации.
Глава IV. Взаимоотношения законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) и органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации
Статья 23. Основы взаимодействия законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации и органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации
1. В соответствии с конституционным принципом разделения государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации и высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации осуществляют свои полномочия самостоятельно.
2. Законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации и высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации взаимодействуют в установленных настоящим Федеральным законом и законом субъекта Российской Федерации формах в целях эффективного управления процессами экономического и социального развития субъекта Российской Федерации и в интересах его населения.
3. Правовые акты высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), нормативные правовые акты органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации направляются в законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации в сроки, установленные конституцией (уставом) и (или) законом субъекта Российской Федерации.
4. Законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации вправе обратиться к высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) или в органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации с предложением о внесении изменений и (или) дополнений в акты, указанные в пункте 3 настоящей статьи, либо 6б их отмене, а также вправе обжаловать указанные акты в судебном порядке или в установленном порядке обратиться в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о соответствии Конституции Российской Федерации указанных нормативных правовых актов.
5. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) вправе обратиться в законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации с предложением о внесении изменений и (или) дополнений в постановления законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации либо об их отмене, а также вправе обжаловать указанные постановления в судебном порядке.
6. Законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации направляет высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) планы законопроектной работы и проекты законов субъекта Российской Федерации.
7. На заседаниях законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российском Федерации и его органов вправе присутствовать с правом совещательного голоса руководители органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации или лица, уполномоченные указанными руководителями.
8. На заседаниях органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации вправе присутствовать депутаты либо по поручению законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации или его председателя работники аппарата законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации.
Статья 24. Участие законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации в формировании органов исполнительной власти в субъекте Российской Федерации. Выражение недоверия высшему исполнительному органу государственной власти субъекта Российской Федерации, руководителям органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации
1. Законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации может принимать участие в формировании высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, в утверждении или согласовании назначения на должность отдельных должностных лиц высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, а также в согласовании назначения на должность руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в случаях, предусмотренных федеральным законом. Формы такого участия устанавливаются конституцией (уставом) и законом субъекта Российской Федерации, а в отношении руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти также Федеральным законом.
2. Законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации вправе выразить недоверие руководителям органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в назначении которых на должность он принимал участие, если иное не предусмотрено конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации. Принятие решения о недоверии указанным руководителям влечет немедленное освобождение их от должности или иные последствия, установленные конституцией (уставом) и (или) законом субъекта Российской Федерации.
Статья 25. Разрешение споров между законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации
Споры между законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации по вопросам осуществления их полномочий разрешаются в соответствии с согласительными процедурами, предусмотренными Конституцией Российской Федерации, конституцией (уставом) и законом субъекта Российской Федерации, либо в судебном порядке.
Статья 26. Ответственность за нарушение законодательства субъекта Российской Федерации
Конституция (устав), законы и иные нормативные правовые акты субъекта Российской Федерации, принятые в пределах его полномочий, обязательны для исполнения всеми находящимися на территории субъекта Российской Федерации органами государственной власти, другими государственными органами и государственными учреждениями, органами местного самоуправления, организациями, общественными объединениями, должностными лицами и гражданами. Невыполнение или нарушение указанных актов влечет ответственность, предусмотренную федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации. В случае, если административная ответственность за указанные действия не установлена федеральным законом, она может быть установлена законом субъекта Российской Федерации.
Глава IV1. Общие принципы разграничения полномочий между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъекта Российской Федерации11[11] Статья 261. Определение полномочий органов государственной власти субъекта Российской Федерации
1. Полномочия, осуществляемые органами государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам ведения субъектов Российской Федерации, определяются конституцией (уставом), законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации.
2. Полномочия, осуществляемые органами государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения, определяются Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, договорами о разграничении полномочий и соглашениями.
3. Полномочия, осуществляемые органами государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам ведения Российской Федерации, определяются федеральными законами, издаваемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также соглашениями.
4. Федеральные законы, договоры о разграничении полномочий и соглашения, определяющие полномочия органов государственной власти субъекта Российской Федерации, должны устанавливать права, обязанности и ответственность органов государственной власти субъекта Российской Федерации, порядок и источники финансирования осуществления соответствующих полномочий, не могут одновременно возлагать аналогичные полномочия на федеральные органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также должны соответствовать другим требованиям, установленным настоящим Федеральным законом. Указанные требования распространяются также на указы Президента Российской Федерации и постановления Правительства Российской Федерации.
Статья 262. Финансовое обеспечение осуществления полномочий органов государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам ведения субъектов Российской Федерации
Полномочия органов государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам ведения субъектов Российской Федерации осуществляются данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций из федерального бюджета).
Статья 263. Принципы финансового обеспечения осуществления полномочий органов государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения
1. Полномочия органов государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения, установленным Конституцией Российской Федерации, указанные в пункте 2 настоящей статьи, осуществляются данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций из федерального бюджета). Осуществление указанных полномочий может в порядке и случаях, установленных федеральными законами, дополнительно финансироваться за счет средств федерального бюджета и федеральных государственных внебюджетных фондов, в том числе в соответствии с федеральными целевыми программами.
Статья 264. Участие органов государственной власти субъекта Российской Федерации в рассмотрении Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации проектов федеральных законов по предметам совместного ведения
1.Проекты федеральных законов по предметам совместного ведения согласовываются с законодательными (представительными) и высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном настоящей статьей.
2.Проекты федеральных законов по предметам совместного ведения после их внесения в Государственную Думу Федерального Собрания российской Федерации (далее — Государственная Дума) направляются в законодательные (представительные) и высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации для представления ими в Государственную Думу в тридцатидневный срок отзывов на указанные законопроекты.
3.Если законодательные (представительные) и высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации более чем одной трети субъектов Российской Федерации выскажутся против принятия соответствующего федерального закона, по решению Государственной Думы создается согласительная комиссия.
4. Проекты федеральных законов по предметам совместного ведения, принятые Государственной Думой в первом чтении, направляются законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации для представления в Государственную Думу поправок к указанным законопроектам в тридцатидневный срок. До истечения этого срока рассмотрение указанных законопроектов во втором чтении не допускается.
Статья 265. Возложение на исполнительные органы государственной власти субъекта Российской Федерации осуществления отдельных полномочий по предметам ведения Российской Федерации
Федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также заключенными в соответствии со статьей 268 настоящего Федерального закона соглашениями на исполнительные органы государственной власти субъекта Российской Федерации может быть возложено осуществление отдельных полномочий по предметам ведения Российской Федерации. В этих случаях применяются требования, указанные в пунктах 7 и 8 статьи 263 и статье 2б4 настоящего Федерального закона.
Статья 267. Принципы и порядок заключения договоров о разграничении полномочий
1. Заключение договоров о разграничении полномочий допускается только в случае, если это обусловлено экономическими, географическими и иными особенностями субъекта Российской Федерации, и в той мере, в которой указанными особенностями определено иное, чём это установлено федеральными законами, разграничение полномочий. В договоре о разграничении полномочий устанавливается перечень полномочий федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъекта Российской Федерации, разграничение которых производится иначе, чем это установлено федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, определяются условия и порядок осуществления этих полномочий, конкретные права и обязанности сторон, срок действия договора о разграничении полномочий и порядок продления данного срока, а также основания и порядок досрочного расторжения договора о разграничении полномочий.
7. Договор о разграничении полномочий подписывается Президентом Российской Федерации и высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации).
8. Президент Российской Федерации в течение десяти дней после подписания договора о разграничении полномочий вносит в Государственную Думу проект федерального закона об утверждении договора о разграничении полномочий.
9. Договор о разграничении полномочий вступает в силу со дня вступления в силу федерального закона об утверждении договора о разграничении полномочий, если указанным федеральным законом не установлено иное.
Договор о разграничении полномочий имеет силу федерального закона и может быть изменен, его действие может быть приостановлено только путем внесения в него изменений и (или) дополнений в порядке, установленном настоящим Федеральным законом для заключения и вступления в силу договора о разграничении полномочий.
10.Срок действия договора о разграничении полномочий не может превышать десять лет.
11.Досрочное прекращение действия (далее — расторжение) договора о разграничении полномочий возможно по взаимному согласию сторон или на основании решения суда.
Статья 268. Принципы и порядок заключения соглашений
1. Федеральные органы исполнительной власти по соглашению с исполнительными органами государственной власти субъекта Российской Федерации могут передавать им осуществление части своих полномочий, если это не противоречит Конституции Российской Федерации, настоящему Федеральному закону и иным федеральным законам. Соглашения заключаются в случае, если осуществление части полномочий не может быть возложено федеральным законом в равной мере на исполнительные органы государственной власти субъекта Российской Федерации.
Исполнительные органы государственной власти субъекта Российской Федерации по соглашению с федеральными органами исполнительной власти могут передавать им осуществление части своих полномочий с передачей необходимых материальных и финансовых средств, если это не противоречит конституции (уставу), законам и иным нормативным правовым актам субъекта Российской Федерации.
Федеральные органы исполнительной власти, передавшие путем заключения соглашений осуществление части своих полномочий соответствующим исполнительным органам государственной власти субъекта Российской Федерации, контролируют соблюдение условий этих соглашений и несут ответственность за ненадлежащее осуществление части переданных полномочий.
Статья 269. Временное осуществление федеральными органами государственной власти отдельных полномочий органов государственной власти субъекта Российской Федерации
1. Отдельные полномочия органов государственной власти субъекта Российской Федерации могут быть временно возложены на федеральные органы государственной власти и (или) должностных лиц, назначаемых федеральными органами государственной власти, в случаях, если:
а) в связи со стихийным бедствием, с катастрофой, иной чрезвычайной ситуацией органы государственной власти субъекта Российской Федерации отсутствуют и не могут быть сформированы в соответствии с настоящим Федеральным законом;
б) возникшая вследствие решений, действий или бездействия органов государственной власти субъекта Российской Федерации просроченная задолженность субъекта Российской Федерации по исполнению долговых и (или) бюджетных обязательств, определенная в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации, превышает 30 процентов собственных доходов бюджета субъекта Российской Федерации в последнем отчетном году;
в) при реализации полномочий, осуществляемых за счет предоставления субвенций из федерального бюджета, исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации допускается нарушение Конституции Российской Федерации, федерального закона, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, если такое нарушение установлено соответствующим судом.
2. В случае, указанном в подпункте «а» пункта 1 настоящей статьи, решение о возложении соответствующих полномочий на федеральные органы государственной власти принимается Президентом Российской Федерации по согласованию с Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
3. В случае, указанном в подпункте «б» пункта 1 настоящей статьи, в субъекте Российской Федерации на срок до одного года по ходатайству Правительства Российской Федерации решением Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в соответствии с федеральным законом вводится временная финансовая администрация.
Временная финансовая администрация не может вводиться в течение одного года со дня начала срока полномочий законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации.
4. В случае, указанном в подпункте «в» пункта 1 настоящей статьи, решение о временном осуществлении федеральными органами исполнительной власти полномочий, при реализации которых исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации допущены соответствующие нарушения, принимается Правительством Российской Федерации в порядке, предусмотренном федеральным законом, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и (или) Правительства Российской Федерации, с одновременным изъятием соответствующих субвенций.
5. Решения федеральных органов государственной власти, принимаемые в соответствии с настоящей статьей, могут быть обжалованы в судебном порядке.
Глава IV2. Экономическая основа деятельности органов государственной власти субъекта Российской Федерации12[12]
Статья 2610. Экономическая основа деятельности органов государственной власти субъекта Российской Федерации
1. Экономическую основу деятельности органов государственной власти субъекта Российской Федерации составляют находящиеся в собственности субъекта Российской Федерации имущество, средства бюджета субъекта Российской Федерации и территориальных государственных внебюджетных фондов субъекта Российской Федерации, а также имущественные права субъекта Российской Федерации.
2. Собственность субъекта Российской Федерации признается и защищается государством наравне с иными формами собственности.
Статья 2612. Управление и распоряжение имуществом субъекта Российской Федерации
1. Органы государственной власти субъекта Российской Федерации самостоятельно управляют и распоряжаются имуществом, находящимся в собственности субъекта Российской Федерации, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и издаваемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также в соответствии с конституцией (уставом), законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации.
2. Органы государственной власти субъекта Российской Федерации вправе передавать имущество субъекта Российской Федерации во временное пользование физическим и юридическим лицам, федеральным органам государственной власти и органам местного самоуправления, отчуждать это имущество, совершать иные сделки в соответствии с федеральными законами, а также с принятыми в соответствии с ними законами субъекта Российской Федерации.
3. Порядок и условия приватизации имущества субъекта Российской Федерации определяются законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.
4. Доходы от использования и средства от приватизации имущества субъекта Российской Федерации поступают в бюджет субъекта Российской Федерации.
Статья 2613. Бюджет субъекта Российской Федерации
1. Каждый субъект Российской Федерации имеет собственный бюджет.
2. Органы государственной власти субъекта Российской Федерации обеспечивают сбалансированность бюджета соответствующего субъекта Российской Федерации и соблюдение установленных федеральными законами и нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации требований к регулированию бюджетных правоотношений, осуществлению бюджетного процесса, размерам дефицита бюджета, размеру и составу государственного долга субъекта Российской Федерации, исполнению бюджетных и долговых обязательств субъекта Российской Федерации.
3. Формирование, утверждение, исполнение бюджета субъекта Российской Федерации и контроль за его исполнением осуществляются органами государственной власти субъекта Российской Федерации самостоятельно с соблюдением требований, установленных настоящим Федеральным законом и Бюджетным кодексом Российской Федерации, а также принятыми в соответствии с ними законами субъекта Российской Федерации.
4. Органы государственной власти субъекта Российской Федерации в порядке, установленном федеральным законом, нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации, представляют федеральным органам государственной власти годовые отчеты об исполнении бюджета субъекта Российской Федерации и консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации.
6. Проект бюджета субъекта Российской Федерации, закон о бюджете субъекта Российской Федерации, годовой отчет об исполнении бюджета субъекта Российской Федерации, ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета субъекта Российской Федерации, а также о численности государственных гражданских служащих субъекта Российской Федерации и работников государственных учреждений субъекта Российской Федерации с указанием фактических затрат на их денежное содержание подлежат официальному опубликованию. По проекту бюджета субъекта Российской Федерации и проекту годового отчета об исполнении бюджета субъекта Российской Федерации проводятся публичные слушания.
Статья 2618. Выравнивание бюджетной обеспеченности субъекта Российской Федерации
1. Выравнивание бюджетной обеспеченности субъекта Российской Федерации осуществляется путем предоставления дотаций из образуемого в составе федерального бюджета Федерального фонда финансовой поддержки субъектов Российской Федерации.
2. Дотации из Федерального фонда финансовой поддержки субъектов Российской Федерации распределяются между субъектами Российской Федерации, расчетная бюджетная обеспеченность консолидированных бюджетов которых не превышает уровень расчетной бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, определенный в качестве критерия предоставления указанных дотаций бюджетам субъектов Российской Федерации по методике, утверждаемой в соответствии с федеральным законом.
Использование при определении расчетной бюджетной обеспеченности субъекта Российской Федерации показателей фактических доходов и расходов за отчетный период и (или) показателей прогнозируемых на плановый период доходов и расходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации не допускается.
Распределение дотаций из Федерального фонда финансовой поддержки субъектов Российской Федерации утверждается федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий год.
Статья 2619. Иные средства финансовой помощи бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета
1. В целях предоставления бюджету субъекта Российской Федерации субсидий для долевого финансирования инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры регионального значения, а также для поддержки созданных субъектом Российской Федерации фондов муниципального развития в составе федерального бюджета может быть образован фонд регионального развития.
Отбор инвестиционных проектов, федеральных целевых программ регионального развития для предоставления указанных субсидий и их распределение между субъектами Российской Федерации осуществляются в порядке, установленном федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.
Распределение субсидий из фонда регионального развития между субъектами Российской Федерации утверждается федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий год.
Статья 2622. Организация исполнения бюджета субъекта Российской Федерации
1. Органы государственной власти субъекта Российской Федерации самостоятельно организуют и осуществляют исполнение бюджета субъекта Российской Федерации в соответствии с общими принципами, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Руководитель финансового органа субъекта Российской Федерации назначается на должность из числа лиц, отвечающих квалификационным требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.
2. Кассовое обслуживание исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации осуществляется в порядке и на условиях, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
3. Органы государственной власти субъекта Российской Федерации взаимодействуют с территориальными органами федерального органа исполнительной власти по налогам и сборам в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Территориальные органы федерального органа исполнительной власти по налогам и сборам ведут учет налогоплательщиков, начисления и уплаты налогов и сборов в бюджет субъекта Российской Федерации и местные бюджеты и предоставляют в финансовый орган субъекта Российской Федерации соответствующие данные по форме и в сроки, которые установлены Правительством Российской Федерации.
Глава V. Обеспечение законности в деятельности законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) и органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации
Статья 27. Обеспечение соответствия Конституции Российской Федерации и федеральным законам конституций (уставов), законов и иных правовых актов субъекта Российской Федерации
1. Правовые акты законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, иных органов государственной власти субъекта Российской Федерации, а также правовые акты должностных лиц указанных органов, противоречащие Конституции Российской Федерации, федеральным законам, конституции (уставу) и законам субъекта Российской Федерации, подлежат опротестованию соответствующим прокурором или его заместителем в установленном законом порядке.
2. Законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации, высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) и органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации при осуществлении своих полномочий обеспечивают соблюдение Конституции Российской Федерации и федеральных законов.
3. Президент Российской Федерации вправе обращаться в законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации с представлением о приведении в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами и федеральными законами конституции (устава), закона субъекта Российской Федерации или иного нормативного правового акта законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации.
4. В случае возникновения разногласий при реализации пункта 3 настоящей статьи Президент Российской Федерации использует согласительные процедуры для их разрешения. В случае не достижения согласованного решения Президент Российской Федерации может передать разрешение спора на рассмотрение соответствующего суда (в редакции Федерального Закона от 29 июля 2000 года № 106-ФЗ).
5. Законы субъекта Российской Федерации, правовые акты законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, правовые акты органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и правовые акты их должностных лиц, нарушающие права и свободы человека и гражданина, права общественных объединений и органов местного самоуправления, могут быть обжалованы в судебном порядке.
Статья 28. Исключена Федеральным Законом от 29 июля 2000 года № 106-ФЗ
Статья 29. Приостановление действия акта высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), актов органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации
1. Президент Российской Федерации вправе приостановить действие акта высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), а также действие акта органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в случае противоречия этого акта Конституции Российской Федерации, федеральным законам, международным обязательствам Российской Федерации или нарушения прав и свобод человека и гражданина до решения этого вопроса соответствующим судом.
2. В период действия указа Президента Российской Федерации о приостановлении действия актов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) и (или) органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации не может быть издан другой акт, имеющий тот же предмет регулирования, за исключением акта, отменяющего акт, действие которого приостановлено Президентом Российской Федерации, либо вносящего в него необходимые изменения.
3. В случае, предусмотренном пунктом 1 настоящей статьи, высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) вправе обратиться в соответствующий суд для решения вопроса о соответствии изданного им или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации акта Конституции Российской Федерации, федеральным законам и международным обязательствам Российской Федерации.
Статья 291. Ответственность должностных лиц органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации
1. Должностные лица органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации несут ответственность, предусмотренную федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации.
2. Президент Российской Федерации выносит предупреждение высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в случае:
а) издания высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) нормативного правового акта, противоречащего Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам и федеральным законам, если такие противоречия установлены соответствующим судом, а высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в течение двух месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда срока не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда;
б) уклонения высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в течение двух месяцев со дня издания указа Президента Российской Федерации о приостановлении действия нормативного правового акта высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) либо нормативного правового акта органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации от издания нормативного правового акта, предусматривающего отмену приостановленного нормативного правового акта, или от внесения в указанный акт изменений, если в течение этого срока высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) не обратилось в соответствующий суд для разрешения спора.
Срок, в течение которого Президент Российской Федерации выносит предупреждение высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), не может превышать шесть месяцев со дня вступления в силу решения суда или со дня официального опубликования указа Президента Российской Федерации о приостановлении действия нормативного правового акта высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) либо нормативного правового акта органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, если высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) не обратилось в соответствующий суд для разрешения спора.
3. Если в течение месяца со дня вынесения Президентом Российской Федерации предупреждения высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) указанное лицо не приняло в пределах своих полномочий мер по устранению причин, послуживших основанием для вынесения ему предупреждения, Президент Российской Федерации отрешает высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) от должности.
4. Президент Российской Федерации в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации, вправе по мотивированному представлению Генерального прокурора Российской Федерации временно отстранить высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) от исполнения обязанностей в случае предъявления указанному лицу обвинения в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления.
5.Решение Президента Российской Федерации о предупреждении высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) или об отрешении высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) от должности принимается в форме указа.
6.Указ Президента Российской Федерации об отрешении высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) от должности вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования.
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), полномочия которого были прекращены указом Президента Российской Федерации об отрешении указанного лица от должности, вправе обжаловать данный указ в Верховный Суд Российской Федерации в течение десяти дней со дня официального опубликования указа.
Верховный Суд Российской Федерации должен рассмотреть жалобу и принять решение не позднее десяти дней со дня ее подачи.
(Статья дополнительно включена Федеральным законом от 29 июля 2000 года № 106-ФЗ)
Глава VI. Заключительные и переходные положения Статья 30. Переходный период
В целях приведения законодательства субъектов Российской Федерации в соответствие с настоящим Федеральным законом и обеспечения преемственности власти устанавливается переходный период — два календарных года со дня вступления в силу настоящего Федерального закона.
Президент Москва, Кремль
Российской Федерации 6 октября 1999 года
Б. Ельцин № 184-ФЗ
Приложение 3. Указ Президента Российской Федерации «о системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» (извлечения)
В целях формирования эффективной системы и структуры федеральных органов исполнительной власти, в соответствии со статьей 112 Конституции Российской Федерации и Федеральным конституционным законом от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» постановляю:
1. Установить, что в систему федеральных органов исполнительной власти входят федеральные министерства, федеральные службы и федеральные агентства.
2. Установить, что функции федерального органа исполнительной власти, руководство деятельностью которого осуществляет Президент Российской Федерации, определяются указом Президента Российской Федерации, функции федерального органа исполнительной власти, руководство деятельностью которого осуществляет Правительство Российской Федерации, — постановлением Правительства Российской Федерации.
Для целей настоящего Указа:
а) под функциями по принятию нормативных правовых актов понимается издание на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов обязательных для исполнения органами государственной власти, органами местного самоуправления, их должностными лицами, юридическими лицами и гражданами правил поведения, распространяющихся на неопределенный круг лиц;
б) под функциями по контролю и надзору понимаются: осуществление действий по контролю и надзору за исполнением органами государственной власти, органами местного самоуправления, их должностными лицами, юридическими лицами и гражданами установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и другими нормативными правовыми актами общеобязательных правил поведения; выдача органами государственной власти, органами местного самоуправления, их должностными лицами разрешений (лицензий) на осуществление определенного вида деятельности и (или) конкретных действий юридическим лицам и гражданам; регистрация актов, документов, прав, объектов, а также издание индивидуальных правовых актов;
в) под правоприменительными функциями понимается издание индивидуальных правовых актов, а также ведение реестров, регистров и кадастров;
г) под функциями по управлению государственным имуществом понимается осуществление полномочий собственника в отношении федерального имущества, в том числе переданного федеральным государственным унитарным предприятиям, федеральным казенным предприятиям и государственным учреждениям, подведомственным федеральному агентству, а также управление находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ;
д) под функциями по оказанию государственных услуг понимается осуществление федеральными органами исполнительной власти услуг, имеющих исключительную общественную значимость и оказываемых на установленных федеральным законодательством условиях неопределенному кругу лиц.
3. Установить, что федеральное министерство:
а) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленной актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации сфере деятельности. Федеральное министерство возглавляет входящий в состав Правительства Российской Федерации министр Российской Федерации (федеральный министр);
б) на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации самостоятельно осуществляет правовое регулирование в установленной сфере деятельности, за исключением вопросов, правовое регулирование которых в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации осуществляется исключительно федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации;
в) в установленной сфере деятельности не вправе осуществлять функции по контролю и надзору, правоприменительные функции, а также функции по управлению государственным имуществом, кроме случаев, устанавливаемых указами Президента Российской Федерации;
г) осуществляет координацию и контроль деятельности находящихся в его ведении федеральных служб и федеральных агентств. В этих целях федеральный министр осуществляет следующие функции:
утверждает ежегодный план и показатели деятельности федеральных служб и федеральных агентств, а также отчет об их исполнении;
вносит в Правительство Российской Федерации по представлению руководителя федеральной службы, федерального агентства проект положения о федеральной службе, федеральном агентстве, предложения о предельной штатной численности федеральной службы, федерального агентства и фонде оплаты труда их работников;
вносит в Министерство финансов Российской Федерации предложения по формированию федерального бюджета и финансированию федеральных служб и федеральных агентств;
вносит в Правительство Российской Федерации проекты нормативных правовых актов, относящихся к определенной ему сфере деятельности и к сферам деятельности федеральных служб и федеральных агентств, находящихся в его ведении, если принятие таких актов относится в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами к компетенции Правительства Российской Федерации;
во исполнение поручений Президента Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации дает поручения федеральным службам и федеральным агентствам и контролирует их исполнение;
имеет право отменить противоречащее федеральному законодательству решение федерального агентства, федеральной службы, если иной порядок отмены решения не установлен федеральным законом;
назначает на должность и освобождает от должности по представлению руководителей федеральных служб, федеральных агентств заместителей руководителей федеральных служб, федеральных агентств, за исключением заместителей руководителей федеральных служб, федеральных агентств, руководство деятельностью которых осуществляет Президент Российской Федерации;
назначает на должность и освобождает от должности по представлению руководителя федеральной службы, федерального агентства руководителей территориальных органов федеральной службы, федерального агентства, за исключением руководителей территориальных органов федеральной службы, федерального агентства, руководство деятельностью которых осуществляет Президент Российской Федерации;
д) осуществляет координацию деятельности государственных внебюджетных фондов. В этих целях федеральный министр осуществляет следующие функции:
вносит в Правительство Российской Федерации предложение о назначении на должность (освобождении от должности) руководителя государственного внебюджетного фонда;
принимает нормативные правовые акты по сферам деятельности государственных внебюджетных фондов;
вносит в Правительство Российской Федерации проекты нормативных правовых актов, регулирующих деятельность государственных внебюджетных фондов;
вносит в Правительство Российской Федерации по представлению руководителя государственного внебюджетного фонда проекты федеральных законов о бюджете государственного внебюджетного фонда и об исполнении бюджета государственного внебюджетного фонда;
назначает проверки деятельности внебюджетных фондов в случаях, устанавливаемых федеральным законом.
4. Установить, что федеральная служба (служба):
а) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, а также специальные функции в области обороны, государственной безопасности, защиты и охраны государственной границы Российской Федерации, борьбы с преступностью, общественной безопасности. Федеральную службу возглавляет руководитель (директор) федеральной службы. Федеральная служба по надзору в установленной сфере деятельности может иметь статус коллегиального органа;
б) в пределах своей компетенции издает индивидуальные правовые акты на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов федерального министерства, осуществляющего координацию и контроль деятельности службы. Федеральная служба может быть подведомственна Президенту Российской Федерации или находиться в ведении Правительства Российской Федерации;
в) не вправе осуществлять в установленной сфере деятельности нормативно-правовое регулирование, кроме случаев, устанавливаемых указами Президента Российской Федерации, а федеральная служба по надзору — также управление государственным имуществом и оказание платных услуг.
5. Установить, что федеральное агентство:
а) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим в установленной сфере деятельности функции по оказанию государственных услуг, по управлению государственным имуществом и правоприменительные функции, за исключением функций по контролю и надзору. Федеральное агентство возглавляет руководитель (директор) федерального агентства. Федеральное агентство может иметь статус коллегиального органа;
б) в пределах своей компетенции издает индивидуальные правовые акты на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов и поручений Президента Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации и федерального министерства, осуществляющего координацию и контроль деятельности федерального агентства. Федеральное агентство может быть подведомственно Президенту Российской Федерации;
в) ведет реестры, регистры и кадастры;
г) не вправе осуществлять нормативно-правовое регулирование в установленной сфере деятельности и функции по контролю и надзору, кроме случаев, устанавливаемых указами Президента Российской Федерации.
6. Порядок взаимоотношений федеральных министерств и находящихся в их ведении федеральных служб и федеральных агентств, полномочия федеральных органов исполнительной власти, а также порядок осуществления ими своих функций устанавливаются в положениях об указанных органах исполнительной власти.
Установленные пунктами 3—5 настоящего Указа ограничения полномочий федеральных органов исполнительной власти не распространяются на полномочия их руководителей по управлению имуществом федеральных органов исполнительной власти, закрепленным за ними на праве оперативного управления, решению кадровых вопросов и вопросов организации деятельности федерального органа исполнительной власти, а также на полномочия по контролю деятельности в возглавляемых ими федеральных органах исполнительной власти.
7. Руководители федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет Президент Российской Федерации, и их заместители назначаются на должность и освобождаются от должности Президентом Российской Федерации.
Порядок взаимодействия между федеральными органами исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет Президент Российской Федерации, а также порядок их взаимодействия с иными федеральными органами исполнительной власти устанавливаются Президентом Российской Федерации.
Положения о федеральных органах исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет Президент Российской Федерации, утверждаются Президентом Российской Федерации.
Руководители федеральных служб, федеральных агентств, за исключением руководителей (их заместителей) федеральных служб, федеральных агентств, руководство деятельностью которых осуществляет Президент Российской Федерации, назначаются на должность и освобождаются от должности Правительством Российской Федерации по представлению федеральных министров, осуществляющих координацию и контроль деятельности федеральных служб, федеральных агентств.
Заместители руководителей федеральных служб, федеральных агентств, за исключением заместителей руководителей федеральных служб, федеральных агентств, руководство деятельностью которых осуществляет Президент Российской Федерации, назначаются на должность и освобождаются от должности соответствующим федеральным министром по представлению руководителей федеральных служб, федеральных агентств.
Порядок назначения на должность руководителей и членов коллегиальных органов управления федеральных служб и федеральных агентств, имеющих статус коллегиального органа, определяется Правительством Российской Федерации, если иное не установлено федеральным законом.
8. Председатель Правительства Российской Федерации имеет одного заместителя Председателя Правительства Российской Федерации.
9. Руководство Аппаратом Правительства Российской Федерации осуществляется Руководителем Аппарата Правительства Российской Федерации — Министром Российской Федерации.
10.Утвердить прилагаемую структуру федеральных органов исполнительной власти.
11.Установить, что федеральные службы и федеральные агентства находятся в ведении федеральных министерств в соответствии с настоящим Указом.
17. Для целей настоящего Указа придать Службе внешней разведки Российской Федерации, Федеральной службе безопасности Российской Федерации, Федеральной службе охраны Российской Федерации и Государственной фельдъегерской службе Российской Федерации статус федеральной службы, Главному управлению специальных программ Президента Российской Федерации и Управлению делами Президента Российской Федерации — статус федерального агентства.
20.Установить, что впредь до внесения изменений в соответствующие федеральные законы наименования федеральных органов исполнительной власти определяются настоящим Указом.
21.Правительству Российской Федерации:
распределить в месячный срок функции упраздняемых федеральных органов исполнительной власти, исходя из положений настоящего Указа, и установить необходимую для их исполнения штатную численность федеральных государственных служащих в пределах общей штатной численности федеральных органов исполнительной власти, действовавшей на день издания настоящего Указа;
утвердить в 2-месячный срок положения о федеральных органах исполнительной власти и внести предложения по внесению изменений в соответствующие акты Президента Российской Федерации;
утвердить в месячный срок предельную штатную численность центральных аппаратов федеральных органов исполнительной власти, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и фонд оплаты труда их работников в пределах средств, предусмотренных Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 186-ФЗ «О федеральном бюджете на 2004 год»;
подготовить в 2-месячный срок предложения по установлению дифференцированной системы оплаты труда в федеральных министерствах, федеральных службах и федеральных агентствах в целях сохранения кадрового потенциала и недопущения ухудшения материального положения федеральных государственных служащих;
обеспечить в установленные законодательством Российской Федерации сроки проведение ликвидационных процедур и предоставление высвобождаемым работникам льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации;
представить в месячный срок предложения по внесению соответствующих изменений в акты Президента Российской Федерации о федеральных органах исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет Президент Российской Федерации;
привести свои акты в соответствие с настоящим Указом.
22. Главному государственно-правовому управлению Президента Российской Федерации в 3-месячный срок внести предложения по приведению актов Президента Российской Федерации в соответствие с настоящим Указом.
24. Впредь до вступления в силу федерального закона о внесении изменений в действующие федеральные законы по вопросам лицензирования установить, что лицензирование видов деятельности, осуществлявшееся федеральными органами исполнительной власти в соответствии с их компетенцией на день вступления в силу настоящего Указа, может по решению Правительства Российской Федерации производиться федеральным министерством или федеральным агентством.
25. Установить, что медицинские, санаторно-курортные и образовательные федеральные государственные учреждения (предприятия), подведомственные министерствам и иным федеральным органам исполнительной власти на день вступления в силу настоящего Указа, продолжают свою деятельность, а их финансирование осуществляется в ранее установленном порядке до принятия Правительством Российской Федерации решения об их передаче в ведение соответствующего федерального агентства, но не позднее 1 января 2005 г.
Президент Москва, Кремль
Российской Федерации 9 марта 2004 года,
В. Путин №314
Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. М 314
Структура федеральных органов исполнительной власти
I. Федеральные министерства, федеральные службы и федеральные агентства, руководство деятельностью которых осуществляет Президент Российской Федерации, федеральные службы и федеральные агентства, подведомственные этим федеральным министерствам
Министерство внутренних дел Российской Федерации
Федеральная миграционная служба
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Министерство иностранных дел Российской Федерации
Министерство обороны Российской Федерации
Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству
Федеральная служба по оборонному заказу
Федеральная служба по техническому и экспортному контролю Российской Федерации Федеральное агентство специального строительства
Министерство юстиции Российской Федерации
Федеральная служба исполнения наказаний
Федеральная регистрационная служба
Федеральная служба судебных приставов
Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации (федеральная служба)
Служба внешней разведки Российской Федерации (федеральная служба)
Федеральная служба безопасности Российской Федерации (федеральная служба)
Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ (федеральная служба)
Федеральная служба охраны Российской Федерации (федеральная служба)
Главное управление специальных программ Президента Российской Федерации (федеральное агентство)
Управление делами Президента Российской Федерации (федеральное агентство)
II. Федеральные министерства, находящиеся в ведении Правительства Российской Федерации, федеральные службы и федеральные агентства, подведомственные этим федеральным министерствам
Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития
Федеральная служба по труду и занятости
Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию
Федеральное агентство по физической культуре, спорту и туризму
Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации
Федеральное архивное агентство
Федеральное агентство по культуре и кинематографии Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки Федеральное агентство по науке Федеральное агентство по образованию Министерство природных ресурсов Российской Федерации Федеральная служба по надзору в сфере экологии и природопользования
Федеральное агентство водных ресурсов Федеральное агентство лесного хозяйства Федеральное агентство по недропользованию Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации
Федеральная служба по атомному надзору Федеральная служба по техническому регулированию и метрологии
Федеральная служба по технологическому надзору Федеральное агентство по атомной энергии Федеральное космическое агентство Федеральное агентство по промышленности Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
Федеральное агентство по энергетике
Министерство регионального развития Российской Федерации13[13] Министерство сельского хозяйства Российской Федерации Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
Федеральное агентство по рыболовству Федеральное агентство по сельскому хозяйству Министерство транспорта и связи Российской Федерации Федеральная служба по надзору в сфере связи Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
Федеральное агентство воздушного транспорта Федеральное дорожное агентство
Федеральное агентство железнодорожного транспорта Федеральное агентство морского и речного транспорта Федеральное агентство связи Министерство финансов Российской Федерации Федеральная налоговая служба Федеральная служба страхового надзора Федеральная служба финансово-бюджетного надзора Федеральная служба по финансовому мониторингу Федеральное казначейство (федеральная служба) Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации
Федеральная служба государственной статистики Федеральная таможенная служба Федеральная служба по тарифам Федеральное агентство по государственным резервам Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом
Федеральные органы исполнительной власти, находящиеся в ведении Правительства Российской Федерации Федеральная антимонопольная служба Федеральная служба по финансовым рынкам
Приложение 4. Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении основных положений государственной политики в области развития местного самоуправления в Российской Федерации»
В целях обеспечения условий для дальнейшего развития эффективной деятельности местного самоуправления, реализации его конституционных полномочий постановляю:
1. Утвердить прилагаемые Основные положения государственной политики в области развития местного самоуправления в Российской Федерации.
2. Предложить федеральным органам государственной власти, органам государственной власти субъектов Российской Федерации применять Основные положения государственной политики в области развития местного самоуправления в Российской Федерации при решении практических задач в сфере местного самоуправления, а также при разработке нормативных правовых актов, касающихся осуществления местного самоуправления.
3. Рекомендовать Конгрессу муниципальных образований Российской Федерации, союзам и ассоциациям муниципальных образований, органам местного самоуправления содействовать реализации государственной политики в области местного самоуправления в Российской Федерации.
Москва, Кремль Президент
15 октября 1999 года Российской Федерации
№ 1370 Б. Ельцин
Основные положения государственной политики в области развития местного самоуправления в Российской Федерации
Основные положения государственной политики в области развития местного самоуправления в Российской Федерации закрепляют единую систему представлений о целях, приоритетных направлениях, задачах и принципах политики государства в сфере развития местного самоуправления, а также о механизмах ее реализации.
Государственная политика в области развития местного самоуправления основывается на Конституции Российской Федерации, Европейской хартии местного самоуправления, общепризнанных принципах и нормах международного права, международных договорах Российской Федерации и находит свое выражение в федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации и иных нормативных правовых актах в области местного самоуправления.
Государственная политика в области развития местного самоуправления направлена на обеспечение преемственности деятельности федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и соответствующих должностных лиц в процессе реформирования местной власти на принципах самоуправления.
I. Конституционная модель местного самоуправления в России и его роль в формировании демократического государства и гражданского общества
Конституцией Российской Федерации установлено, что единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ, который осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления обладают своей компетенцией.
Местное самоуправление является одной из основ конституционного строя Российской Федерации. В качестве публичной власти, наиболее приближенной к населению, местное самоуправление обеспечивает защиту тех интересов граждан, которые основаны на совместном их проживании на определенной территории, на неизбежном взаимодействии жителей этой территории. Поэтому местное самоуправление является одной из фундаментальных основ российской системы народовластия. В то же время местное самоуправление признается и гарантируется государством как форма самоорганизации граждан для решения вопросов местного значения, обеспечения повседневных потребностей каждого человека в отдельности и населения муниципального образования в целом.
Для эффективного функционирования государства необходим баланс интересов государственных (Российской Федерации и субъектов Российской Федерации) и интересов местных, то есть общих интересов жителей каждого отдельно взятого городского, сельского поселения, иного муниципального образования. Роль выразителя местных интересов и призвано играть местное самоуправление.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации местное самоуправление самостоятельно в пределах своих полномочий. Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти. Государством признается и защищается муниципальная собственность, в том числе собственность на землю и другие природные ресурсы. Данные конституционные положения относятся к основам конституционного строя Российской Федерации и направлены на обеспечение политической и правовой стабильности положения местного самоуправления в системе публичной власти.
Участие граждан в осуществлении местного самоуправления гарантируется конституционными правами избирать и быть избранными в органы местного самоуправления, направлять индивидуальные и коллективные обращения в органы местного самоуправления, обжаловать в суд решения и действия (или бездействие) органов местного самоуправления, самостоятельно решать вопросы местного значения (как через органы местного самоуправления, так и путем прямого волеизъявления), самостоятельно определять структуру органов местного самоуправления. Органы местного самоуправления, как и органы государственной власти, создают условия для осуществления прав граждан на жилище, на охрану здоровья и медицинскую помощь, на образование, ряда других прав. Конституцией Российской Федерации названы важнейшие вопросы местного значения: управление муниципальной собственностью, формирование, утверждение и исполнение местных бюджетов, установление местных налогов и сборов, осуществление охраны общественного порядка. Федеральные и региональные законы относят к вопросам местного значения также иные вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения муниципального образования. Кроме того, муниципальные образования вправе принимать к рассмотрению вопросы, не исключенные из их ведения и не отнесенные к ведению других муниципальных образований и органов государственной власти. Органы местного самоуправления могут наделяться законом отдельными государственными полномочиями с передачей необходимых для их осуществления материальных и финансовых средств.
Местное самоуправление осуществляется в городских, сельских поселениях и на других территориях с учетом исторических и иных местных традиций. Изменение границ территорий, в которых осуществляется местное самоуправление, допускается только с учетом мнения населения соответствующих территорий.
Гарантиями местного самоуправления являются право на судебную защиту, право на компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти, а также запрет на ограничение прав местного самоуправления, установленных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами.
Положения Конституции Российской Федерации, определяющие основные принципы осуществления местного самоуправления, явились результатом осмысления отечественного опыта организации местной власти с учетом сформулированных в Европейской хартии местного самоуправления общих для демократических государств принципов децентрализации управления, самоорганизации граждан, законности, осуществления публичновластных полномочий на уровне, позволяющем наиболее эффективно их реализовывать.
Особую роль играет местное самоуправление в становлении гражданского общества в России, являясь одновременно и механизмом формирования такого общества, и его неотъемлемой составной частью. Включение членов местного сообщества в процесс принятия общественно значимых решений является одним из механизмов реального осуществления народовластия.
Органы государственной власти должны не только создавать правовую и экономическую основы деятельности муниципальной власти, но и разъяснять населению государственную политику в области развития местного самоуправления, способствовать тому, чтобы граждане имели реальную возможность участвовать в решении вопросов местного значения.
Принятие государственных нормативов и стандартов в области медицины, образования, коммунального обслуживания, безопасности, а также применение этих нормативов в муниципальных образованиях должны быть нацелены на решение задач развития человеческого потенциала территории и местного сообщества. Это станет возможным только при активном гражданском участии жителей, при постоянной обратной связи между местной властью и местным сообществом.
Развитие международного сотрудничества в экономической, гуманитарной и других областях на уровне муниципальных образований и их объединений играет важную роль в налаживании добрососедских отношений с зарубежными государствами, способствует сближению народов.
Местное самоуправление позволяет оптимизировать использование общенациональных ресурсов. Местные сообщества способны решать свои проблемы в наиболее эффективных формах, с учетом конкретных условий каждой отдельной территории. Поэтому реально действующее местное самоуправление позволяет государственной власти сконцентрироваться на решении проблем федерального и регионального уровня, способствует повышению эффективности государственного управления.
Поддержка местного самоуправления со стороны государства и создание условий для устойчивого самостоятельного развития муниципальных образований должны быть ориентированы на эффективное и согласованное функционирование федеральных, региональных и муниципальных органов власти, государственных и гражданских институтов в целях обеспечения конституционных прав и свобод граждан России, повышения жизненного уровня и благосостояния многонационального народа Российской Федерации.
II. Современное состояние местного самоуправления в России
Принятая в 1993 году Конституция Российской Федерации создала необходимую конституционно-правовую основу для самостоятельного решения местными сообществами вопросов местного значения, а также для реализации коллективных интересов граждан, связанных с местом их проживания.
В настоящее время на федеральном уровне в основном создана нормативная правовая база, необходимая для организации и деятельности местного самоуправления. В развитие конституционных норм разработан и принят основополагающий нормативный правовой акт, регламентирующий осуществление местного самоуправления в Российской Федерации, — Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также ряд федеральных законов, регламентирующих вопросы проведения муниципальных выборов и местных референдумов, финансово-бюджетной деятельности местного самоуправления, организации муниципальной службы, деятельности муниципальных образований как субъектов гражданско-правовых отношений. Российской Федерацией ратифицирована Европейская хартия местного самоуправления.
Значительная часть правового регулирования местного самоуправления должна осуществляться также на региональном и муниципальном уровне власти. В связи с этим в субъектах Российской Федерации и в муниципальных образованиях идет активный процесс формирования нормативной правовой базы местного самоуправления.
На территориях большинства субъектов Российской Федерации проведены муниципальные выборы и местное самоуправление осуществляется в формах, в основном соответствующих требованиям Конституции Российской Федерации и федерального законодательства. Однако формирование полноценных органов местного самоуправления еще не завершено. В Российской Федерации существуют территории, население которых не реализовало свое конституционное право избирать и быть избранным в органы местного самоуправления. В ряде случаев органы местного самоуправления не имеют возможности осуществлять свои конституционные полномочия, в частности — по формированию, утверждению и исполнению местных бюджетов, установлению местных налогов и сборов, управлению муниципальной собственностью. Это не только ущемляет права граждан на участие в местном самоуправлении, но и значительно затрудняет проведение выборов в органы государственной власти, так как в ходе избирательного процесса обязательным является участие в нем органов местного самоуправления. Кроме того, в городских, сельских поселениях и на иных территориях, где отсутствуют органы местного самоуправления, не могут собираться местные налоги и сборы, поскольку правом устанавливать их обладают только представительные органы местного самоуправления.
Успешное строительство экономически развитого федеративного государства, достижение политической и общественной стабильности невозможны без согласованной деятельности всех уровней власти. Разграничение компетенции между федеральными, региональными и муниципальными органами власти должно осуществляться с учетом особенностей соответствующей территории (географических, экономических, демографических, этнических и других), чтобы конкретные полномочия возлагались на органы власти, способные максимально эффективно их осуществлять.
Ряд нерешенных проблем, вызванных экономическими трудностями в стране, неполнотой законодательного регулирования (в первую очередь отсутствием четкого разграничения компетенции между федеральными, региональными и муниципальными органами власти), приводит к разногласиям и конфликтам между органами государственной власти и органами местного самоуправления. Предстоит кропотливая работа органов законодательной, исполнительной и судебной государственной власти по разрешению таких разногласий и конфликтов.
Проблема нередко усугубляется субъективным фактором — неумением, а подчас и нежеланием соответствующих должностных лиц вырабатывать согласованные решения, направленные на взаимодействие федеральных, региональных и муниципальных органов власти в интересах населения.
В целях координации усилий по защите прав органов местного самоуправления и взаимодействия с органами государственной власти муниципальные образования объединяются в союзы и ассоциации. За последние годы в России созданы общероссийские, межрегиональные, региональные, специализированные объединения муниципальных образований. Практические результаты, достигнутые в ходе муниципальной реформы, в немалой степени явились следствием совместной работы таких объединений.
По инициативе союзов и ассоциаций муниципальных образований учрежден Конгресс муниципальных образований Российской Федерации — единая общенациональная организация, представляющая интересы всех муниципальных образований при взаимодействии с федеральными органами государственной власти, а также с зарубежными и международными организациями, занимающимися вопросами местного самоуправления.
Создан и действует Совет по местному самоуправлению в Российской Федерации — федеральный координационный центр при Президенте Российской Федерации, обеспечивающий рассмотрение важнейших вопросов развития местного самоуправления и подготовку соответствующих положений Президенту Российской Федерации. В процессе становления местного самоуправления выявился ряд общих проблем, среди которых необходимо выделить следующие проблемы:
1.Несогласованность и несистематизированность законодательства Российской Федерации о местном самоуправлении. Ряд федеральных нормативных правовых актов, в первую очередь, принятых до вступления в силу Конституции Российской Федерации, содержат положения, не соответствующие конституционному статусу местного самоуправления; кроме того, нормы, регулирующие отдельные вопросы осуществления местного самоуправления, содержатся в значительном количестве отраслевых законодательных и иных нормативных правовых актов.
2.Неполное и непоследовательное законодательное регулирование вопросов организации и деятельности местного самоуправления. Нормы Конституции Российской Федерации и принятых нормативных правовых актов не исчерпывают необходимое правовое обеспечение осуществления местного самоуправления. Кроме того, серьезные трудности в практической деятельности органов местного самоуправления вызывает неоднозначность в понимании некоторых норм российского муниципального права, в том числе закрепленных Конституцией Российской Федерации.
3. Несоблюдение законодательства Российской Федерации о местном самоуправлении, в том числе:
принятие законодательных актов субъектов Российской Федерации, противоречащих Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству;
принятие нормативных правовых актов органов местного самоуправления, противоречащих Конституции Российской Федерации, федеральному законодательству и законодательству соответствующего субъекта Российской Федерации;
невыполнение норм муниципального права должностными лицами органов государственной власти и органов местного самоуправления.
4. Бездействие органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, отсутствие нормативного регулирования на соответствующем уровне вопросов, связанных с осуществлением местного самоуправления.
5. Отсутствие четкого правового разграничения полномочий между органами государственной власти (федеральными и субъектов Российской Федерации) и органами местного самоуправления является одной из наиболее острых проблем становления местного самоуправления, препятствующих эффективному решению ряда важнейших вопросов деятельности органов местного самоуправления, в том числе вопроса наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями.
6. Недостаточное обеспечение финансово-экономической самостоятельности муниципальных образований. Эта проблема включает в себя комплекс вопросов, решаемых как на государственном, так и на муниципальном уровне. К ним относятся вопросы формирования муниципальной собственности (в том числе муниципальной собственности на землю), создания условий для формирования полноценных местных бюджетов (в том числе учета; специфики муниципальных образований при распределении государственных финансовых ресурсов), создания стабильной нормативной основы экономической деятельности муниципальных образований и другие.
7. Несовершенство механизмов судебной защиты местного самоуправления, недостаточная урегулированность вопроса обеспечения исполнения судебных решений, а также несовершенство системы подготовки судебных кадров и повышения квалификации судей в сфере муниципального права.
8. Отсутствие права органов самоуправления на защиту посредством конституционного судопроизводства прав местного самоуправления и конституционных прав граждан на осуществление местного самоуправления.
9. Нехватка квалифицированных муниципальных кадров. Общероссийская система кадрового обеспечения муниципальных образований, обучения выборных лиц местного самоуправления и муниципальных служащих до настоящего времени не сложилась.
Деятельность государства по решению указанных проблем должна осуществляться в рамках единой государственной политики в области развития местного самоуправления в Российской Федерации.
III. Цель, основные направления и задачи государственной политики и развития местного самоуправления Российской Федерации
Целью государственной политики в области развития местного самоуправления в Российской Федерации является обеспечение дальнейшего развития местного самоуправления и повышения эффективности его деятельности как необходимых условий становления экономически и социально-развитого демократического государства.
Для достижения указанной цели эта политика должна быть направлена:
на обеспечение реализации конституционных прав граждан на осуществление местного самоуправления;
на создание условий для реализации конституционных полномочий органов местного самоуправления;
на обеспечение государственных гарантий местного самоуправления.
В рамках каждого из названных направлений предстоит решить следующие задачи:
1. Обеспечение реализации конституционных прав граждан на осуществление местного самоуправления предполагает:
а) создание условий для реализации конституционных прав граждан, прежде всего прав:
избирать и быть избранными в органы местного самоуправления;
осуществлять местное самоуправление через выборные и иные органы местного самоуправления;
участвовать в решении вопросов местного значения путем прямого волеизъявления, а также путем организации и деятельности территориального общественного самоуправления;
б) законодательное определение порядка учета мнения населения при изменении границ муниципальных образований;
в) создание эффективной системы взаимодействия органов местного самоуправления с населением, в том числе:
формирование механизмов контроля за эффективностью деятельности органов местного самоуправления со стороны населения;
формирование механизмов ответственности органов местного самоуправления и их должностных лиц перед населением;
организацию системы разъяснения населению конституционных основ местного самоуправления и государственной политики в области развития местного самоуправления в Российской Федерации.
2. Создание условий для реализации органами местного самоуправления своих конституционных полномочий предполагает:
а) создание условий для реализации органами местного самоуправления права на самостоятельное решение таких вопросов местного значения, как:
владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью, включая землю;
формирование, утверждение и исполнение местных бюджетов, установление местных налогов и сборов;
осуществление охраны общественного порядка;
б) создание условий для участия органов местного самоуправления наряду с органами государственной власти в обеспечении прав граждан: на жилище; на охрану здоровья и оказание медицинской помощи; на обеспечение общедоступного образования в муниципальных образовательных учреждениях;
в) завершение в рамках налоговой и бюджетной реформ формирования финансово-экономической базы местного самоуправления, совершенствование системы бюджетного и налогового регулирования прежде всего за счет:
перераспределения средств федерального бюджета, направляемых в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, обеспечения финансовой самостоятельности муниципальных образований для решения вопросов, отнесенных к их компетенции;
выработки принципов взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе обеспечения реализации отдельных государственных полномочий, передаваемых органам местного самоуправления, и установления минимальных государственных социальных стандартов;
активного формирования муниципальной собственности как важнейшей составляющей финансово-экономической базы местного самоуправления;
развития рынка недвижимости и инвестиционной политики, обеспечивающей привлечение доходов населения и ориентированной на участие представителей малого и среднего бизнеса;
создания благоприятных условий для предпринимательства, эффективного использования местных природных ресурсов и координации деятельности всех предприятий малого и среднего бизнеса по выполнению работ для населения и оказанию ему услуг, обеспечению его продуктами питания и товарами народного потребления;
г) разграничение полномочий и соответствующих материальных и финансовых ресурсов между:
федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации;
органами государственной власти (федеральными и субъектов Российской Федерации) и органами местного самоуправления;
органами местного самоуправления, в случае если на территории муниципального образования имеются другие муниципальные образования;
д) формирование системы эффективного государственного контроля за соблюдением органами местного самоуправления федерального законодательства и законодательства соответствующего субъекта Российской Федерации;
е) создание условий для взаимодействия муниципальных образований, в том числе на региональном, федеральном и между народном уровне;
ж) научно-методическую и организационно-методическую поддержку со стороны государства деятельности органов местного самоуправления;
з) создание эффективной государственной системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для работы в органах местного самоуправления;
и) информационную поддержку местного самоуправления.
3. Обеспечение государственных гарантий местного самоуправления, а также обеспечение соблюдения органами государственной власти и органами местного самоуправления законодательства Российской Федерации о местном самоуправлении и исполнения нормативных правовых актов органов местного самоуправления, что предполагает:
а) защиту прав местного самоуправления, установленных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами;
б) защиту муниципальной собственности;
в) обеспечение минимальных местных бюджетов путем закрепления доходных источников для покрытия минимально необходимых расходов местных бюджетов, устанавливаемых на основе нормативов минимальной бюджетной обеспеченности, с учетом специфики муниципальных образований;
г) обеспечение стабильной нормативной правовой базы экономической деятельности муниципальных образований;
д) обеспечение самостоятельной деятельности органов местного самоуправления в пределах их компетенции;
е) обеспечение конституционного права местного самоуправления на судебную защиту;
ж) обеспечение конституционного права местного самоуправления на компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти;
з) обеспечение передачи органам местного самоуправления материальных и финансовых средств, необходимых для осуществления этими органами отдельных государственных полномочий, которыми они наделяются;
и) формирование муниципального права как комплексной отрасли права, выработка стратегии законодательной деятельности в области местного самоуправления;
к) проведение фундаментальных научных исследований в области местного самоуправления;
л) разработку современных муниципальных управленческих технологий.
IV. Принципы государственной политики в области развития местного самоуправления в Российской Федерации
Государственная политика в области развития местного самоуправления в Российской Федерации формируется и реализуется на основе соблюдения следующих принципов:
единство целей, направлений, задач и механизмов реализации государственной политики;
комплексный подход к реализации государственной политики;
взаимодействие и сотрудничество федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в процессе реализации государственной политики;
преемственность государственной политики на разных этапах проведения муниципальной реформы;
всесторонняя поддержка местного самоуправления со стороны государства;
невмешательство органов государственной власти в компетенцию органов местного самоуправления;
контроль со стороны государства за реализацией государственными органами и их должностными лицами государственной политики.
V. Механизмы реализации государственной политики в области развития местного самоуправления в Российской Федерации
Государство в лице федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации располагает рядом механизмов, позволяющих осуществлять государственную политику в области развития местного самоуправления в Российской Федерации. К таким механизмам относятся:
правовое регулирование организационной, финансовой и хозяйственной самостоятельности местного самоуправления при решении вопросов местного значения;
формирование системы государственных органов, занимающихся вопросами местного самоуправления;
принятие федеральных и региональных программ, способствующих реализации конституционных основ местного самоуправления и развитию муниципальных образований;
бюджетное и налоговое регулирование, позволяющее обеспечить сбалансированные минимальные местные бюджеты, создать условия для оптимизации налоговой базы муниципальных образований;
передача в муниципальную собственность находящихся в государственной собственности объектов, необходимых для осуществления полномочий местного самоуправления:
методическая поддержка местного самоуправления, в том числе организация и проведение конференций, семинаров по актуальным вопросам местного самоуправления;
подготовка и повышение квалификации кадров для местного самоуправления, в том числе повышение квалификации выборных лиц местного самоуправления, подготовка кандидатов и участников выборных кампаний к выборам и другим процедурам прямого волеизъявления населения;
информационная поддержка местного самоуправления, в том числе разъяснение населению конституционных основ местного самоуправления, информирование его о ходе и проблемах реформы местного самоуправления, о роли населения в создании системы общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления;
широкое использование согласительных процедур при решении проблем, возникающих в процессе взаимодействия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления .
Комплексное использование указанных механизмов в рамках долгосрочных федеральных и региональных целевых программ поддержки местного самоуправления будет способствовать наиболее эффективной реализации государственной политики в области местного самоуправления Российской Федерации.
***
Реализация государственной политики в области развития местного самоуправления в Российской Федерации требует комплексного подхода к решению поставленных задач, поэтапного их выполнения, а также определения приоритетных направлений на соответствующем этапе реализации государственной политики.
Успешная реализация государственной политики в области развития местного самоуправления в Российской Федерации должна привести к созданию системы взаимодействия населения, местного самоуправления и государственной власти. Эффективное функционирование этой системы позволит обеспечить:
улучшение условий жизни населения в каждом муниципальном образовании;
обретение гражданами навыков демократического взаимодействия с формируемыми ими органами местного самоуправления, а также навыков общественного контроля за эффективностью их деятельности;
устойчивое самостоятельное развитие муниципальных образований.